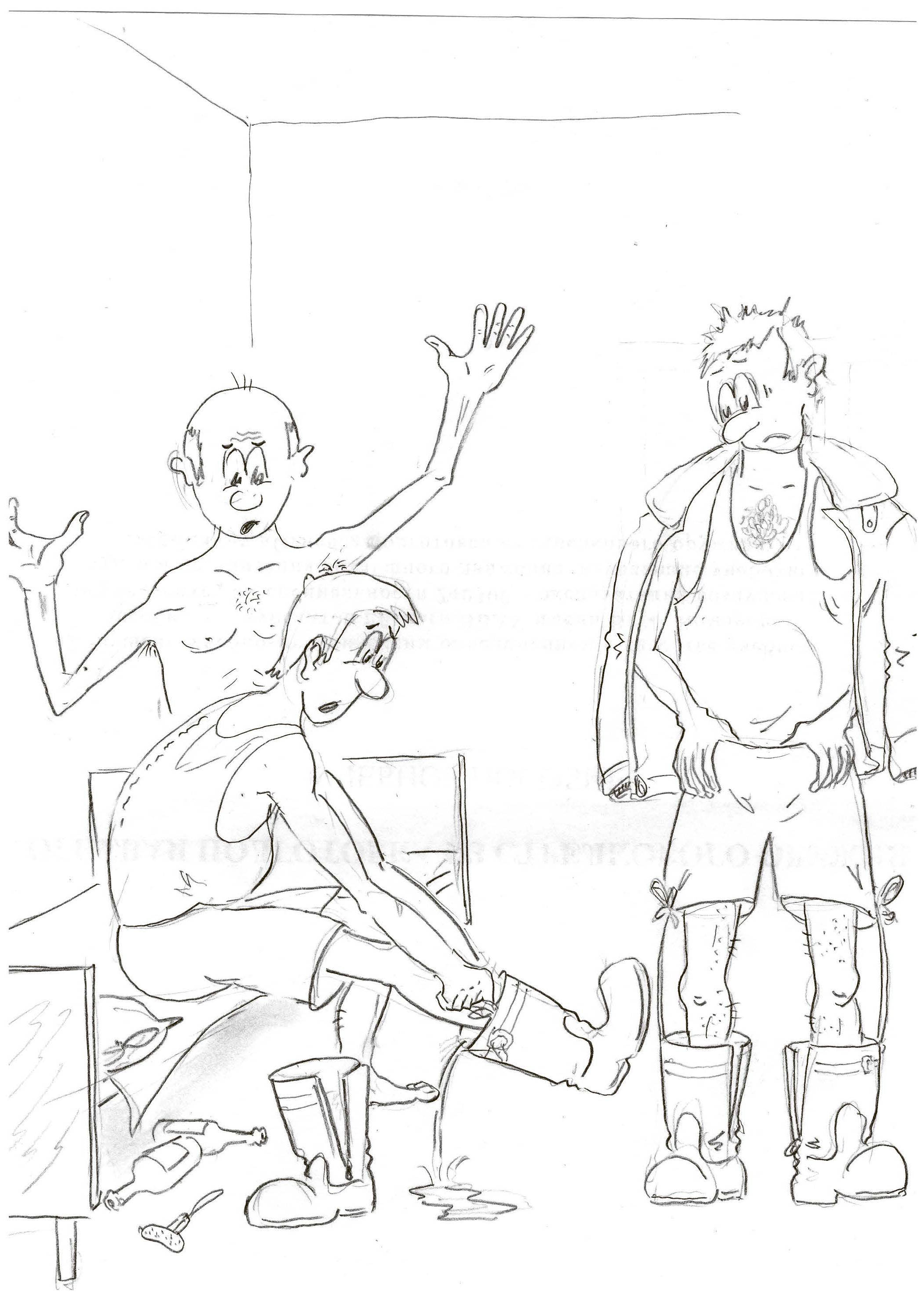Кубякин О.Ю.
Шинель номер пять
Автор: Кубякин О. Ю.
Художники: ЗейгальА. Г., Голобородько А. Б.ООО «ЭРА», 2012. - 228 с.

Содержание
1. И охота и рыбалка
2. Первые шаги
3. Миша Бороданков
4. Как автор познакомился с художником
5. Карелкин
6. Иванов
7. Паша Дубов
8. Сколько в году Новых годов?.
9. Герои
10. Орден
11. Перелыгин
12. Казачкин
13. Я убью тебя л-ик
14. Аронов
15. Очередные звания
16. Айсберг
17. Особенности военной психологии
18. Митька
19. Ларюшкин
20. Властелин бочки
21. Игрушечная железная дорога
22. Володько, Предеин
23. Буря мглою
24. Караван
25. Форсаж
26. Морозов Ваня
27. Страсти идеологии
28. Рыбалка в Каракумах
29. Академия
30. Экипаж
31. Армейский рай
32. Митька 2
33. Послесловие.
Рассказов об армии советского периода сохранилось совершенно мало. Объяснение этому простое. Любой откровенный рассказ об армии автоматически выходил смешным и антисоветским. Любая правда чрезвычайно отдавала критикой на существующий строй.
И охота и рыбалка
Было это, не то в Таганроге, не то в Ейске. В общем, неважно, где это было. Жил молодой парень, собирался жениться. А парень этот был военным. Неважно, в каком звании, но был он высокий, симпатичный и с высшим образованием.
И решил он свою избранницу прогулять по свежему воздуху, а заодно удивить рыбалкой и охотой одновременно. Взял удочки, надувную лодку, ружьё и собаку Астру.
Сидят они в лодке посреди тихого заливчика. Ветерок ласковый. Осеннее солнышко пригревает. Коленками друг в дружку приятно упираются, размеры резиновой лодочки себе представляете? Астра на бережку, что-то копает. Тишина-а.
Сидят они так, поплавками любуются. Он рассказывает негромко, шутит иногда. Она застенчиво улыбается. Только вот до сих пор не выяснено – чем же он с утра покушал?
Начало его слегка пучить. Но вроде несильно так, терпимо. Конечно, оно бы пукнуть не мешало, но размеры лодки себе представляете? Ладно, дело житейское. Сидит он дальше терпит. Она что-то говорит, надо слушать, самому умиляться.
Вспоминает, однако, что же он с утра такого съел? Всегда кажется, если вспомнишь – легче станет. А может не стоит вообще по пустякам расстраиваться? Может само пройдёт? Дело житейское. И зря так подумал. Оно, зараза, не проходит. А виду подавать нельзя. Сидит он крепится. Надеется на что-то. Хотя напряжение растёт, уже красный стал, вспотел весь.
Короче досиделся он. Столько в нём скопилось. Начало подозрение мучить, что глаза вылезают. Кажется ему, что он на варёного рака уже похож. Дошёл так до крайней точки. Ясно стало, что пошевелиться не может и к берегу не успеть. Чувствует – если ничего срочно не придумать, разорвёт его пополам. Единственное, что мозги выдали, решил он из ружья пальнуть и под этот ружейный грохот, пока дама слегка ог лушённая, весь гадский дух из себя выпустить.
Увидел какую-то птицу далеко на горизонте, и хорошо, что далеко, и нельзя было понять, что это не утка. Хватает ружьё, строго кричит:
«Астра!», и нажимает на курок. Но подлое ружьё вместо того, чтобы оглушительно бахнуть, слабенько так щёлкает. Осечку, значит, сволочь делает. Он понимает, что это катастрофа, а уже настроился, остановить процесс не может. Звук идущий из его штанов был ужасен. Громкий, длинный, а в конце какое то чавканье.
После они оба потупили глаза и стали в воду глядеть, будто ничего не случилось. Так, некоторое время, сидели остолбенело. Но беда в том, что после невыносимого терпежу из него вместе с газовой субстанцией вышло маленько жидкой. Да, что там маленько, прилично так вышло. И было совершенно ясно, что с минуты на минуту пойдёт запашок. Слух невесты он уже позорно сразил, если ещё нюх сразить, то в пору вешаться. Ситуация получается хуже чем была. Начал он лодку до ветру подворачивать, что б на невесту не сносило. А ветерок слабенький. Лавируй, не лавируй, вот, вот находка в штанах запашиной разразится.
Промямлив, что-то вроде: «Здесь мы уже ничего не поймаем», смотал удочки и судорожно погрёб к берегу. Вот же дурак, чего он так далеко отплыл? Гребёт, гребёт, а берег всё не близко. И ветерок слабенький. И размеры лодки себе представляете? В общем, похоже, учуяла невеста.
Выскочил на песок и быстро в заросли. Снял штаны. Обтёрся, как мог грязными трусами. Выкинул их. Привёл себя в порядок и с чувством облегчения возвращается к невесте.
Тут бы всему этому позору и закончиться, если бы не верный друг Астра, которого сам дрессировал. Выбегает Астра из зарослей, кладёт к ногам хозяйские, грязные трусы и ждёт похвалы, преданно глядя в глаза. А так всё неплохо закончилось. Поженились они, жили нормально, только на рыбалку она с ним больше не ходила.

Первые шаги
Ровно четвёртого августа нас зачислили курсантами Ейского училища лётчиков. Именно в этот безветренный и жаркий день всех поголовно остригли налысо, а потом одели в солдатскую робу непременно на два размера больше потребной. Наши лица и фигуры стали удивительно одинаковыми. Глядя на всё это, в голове кружилось единственное слово «инкубатор». Мы вступили в чужую, незнакомую жизнь.
Сначала у нас пропали лица, потом имена, потом личное время. Здесь мы впервые выяснили, что храп бывает «стерео»,а от горохового супа люди по ночам не только храпят. Здесь узнали о караульных калошах. Калоши придавались к валенкам сорок девятого размера. Сами валенки предназначались для одевания их поверх сапог. Калоши напоминали могучие корабли со спиленными мачтами. В такой калоше наверняка смог бы уплыть ребёнок, если бы как-то узнал пароль в караульное помещение.
Иногда калоши брали домой прапорщики, чтобы отпугнуть нежелательных женихов от своих дочек. Калоши они ставили в коридоре поближе к входной двери. Кавалер заходил в коридор, ненароком бросал взгляд на калоши, и желание появляться ещё раз пропадало начисто.
Но самое главное мы начали овладевать красочной военной речью, представляющей собой сплошной фольклор.

*
Уборка территории. Взвод усиленно трудится на закреплённом участке.
Командир взвода капитан Шавов недовольно спрашивает:
- Где лопаты? Я же с лопатами договорился!
- Вон несут, товарищ капитан, - показывает рукой сержант.
- А-а. Отлично. Ну, тогда берите лопаты и метите.
- Где мести? – уточняет сержант.
Шавов, неодобрительно посмотрев на сержанта, берёт командование в свои руки:
- Взвод! Слушай мою команду! От меня до следующего столба, влево, вправо уступами марш!
- До столба и всё? – снова уточняет сержант.
- Как это до столба и всё? – возмущается взводный, - а после столба, что, Ваньку валять? Нет. После столба до утреннего осмотра мести будете.
Рядом два курсанта чешут затылки. Им поручено заделать цементом дыру в асфальте. Но ребята городские, только после школы, с цементом никогда дело не имели.
- Товарищ капитан, - спрашивают у Шавова, - а как цемент разводить? Капитан недовольно морщится, но всё же важно разъясняет:
- Пятьдесят процентов цемента и пятьдесят процентов песка.
- Так, а воду? – снова спрашивают курсанты.
- А-а? Ну и пятьдесят процентов воды.
*
Утренний осмотр. Взвод стоит в две шеренги на центральном проходе в казарме, лицом друг к другу. Пока сержант проверяет, кто плохо пришил сменный воротничок или плохо почистил медную бляху, взводный осматривает заправку коек и порядок в прикроватных тумбочках. Обнаружив в одной из тумбочек банку с недоеденной сгущёнкой, приходит в полное возмущение:
- Это что, понимаешь? Может вы сюда ещё огурцов наложите? Эта тумбочка в увольнение не пойдёт!
Речь сопровождается энергичным потрясыванием недоеденной банки. Курсантский строй ломается. Все, вытянув шеи, наблюдают за происходящим.
- Вся что ли не пойдёт? – возмущается сосед недоевшего сгущёнку.
Тумбочка ведь на двоих.
- Вся! – грозно отрезает взводный. – Будем всю тумбочку через коллектив воспитывать.
Недоевший сгущёнку виновато смотрит на своего соседа, остальные сочувственно похлопывают его по плечу.
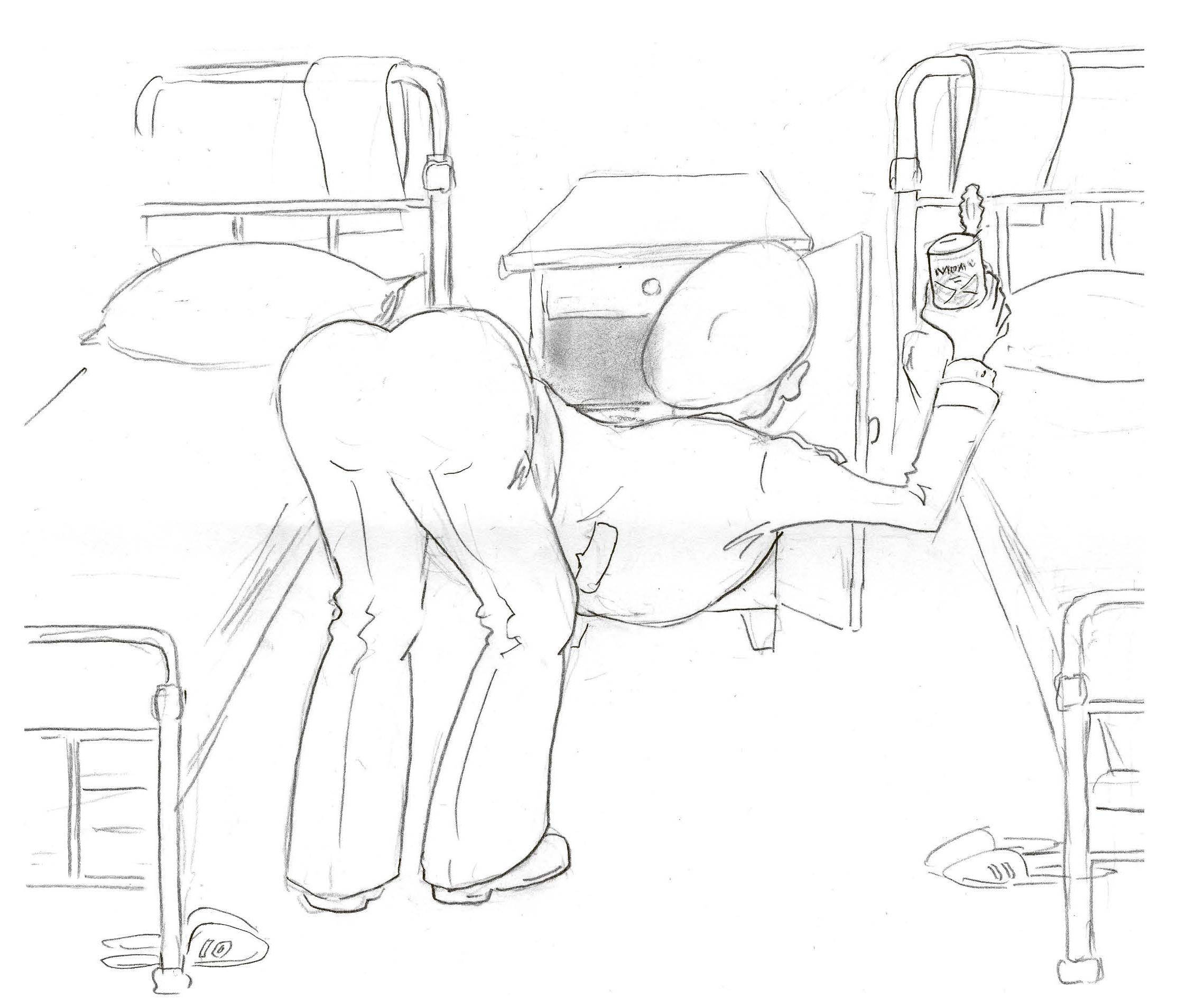
*
Первая пара СВЖ (самолётовождение). Градусы, склонения, радиусы разворота. Ох, и нудная наука. Не у всех курсантов хватает сил сидеть молча. Майор Пападик делает замечание особо разговорчивому. Тот некоторое время сидит молча, но затем не выдерживают нервы. Опять начинает разговаривать на уроке. Грозный Пападик уже ничего не говорит, но в верхнем углу доски пишет мелом:
«Шурыгин, будешь болтать – пойдёшь на тряпку».
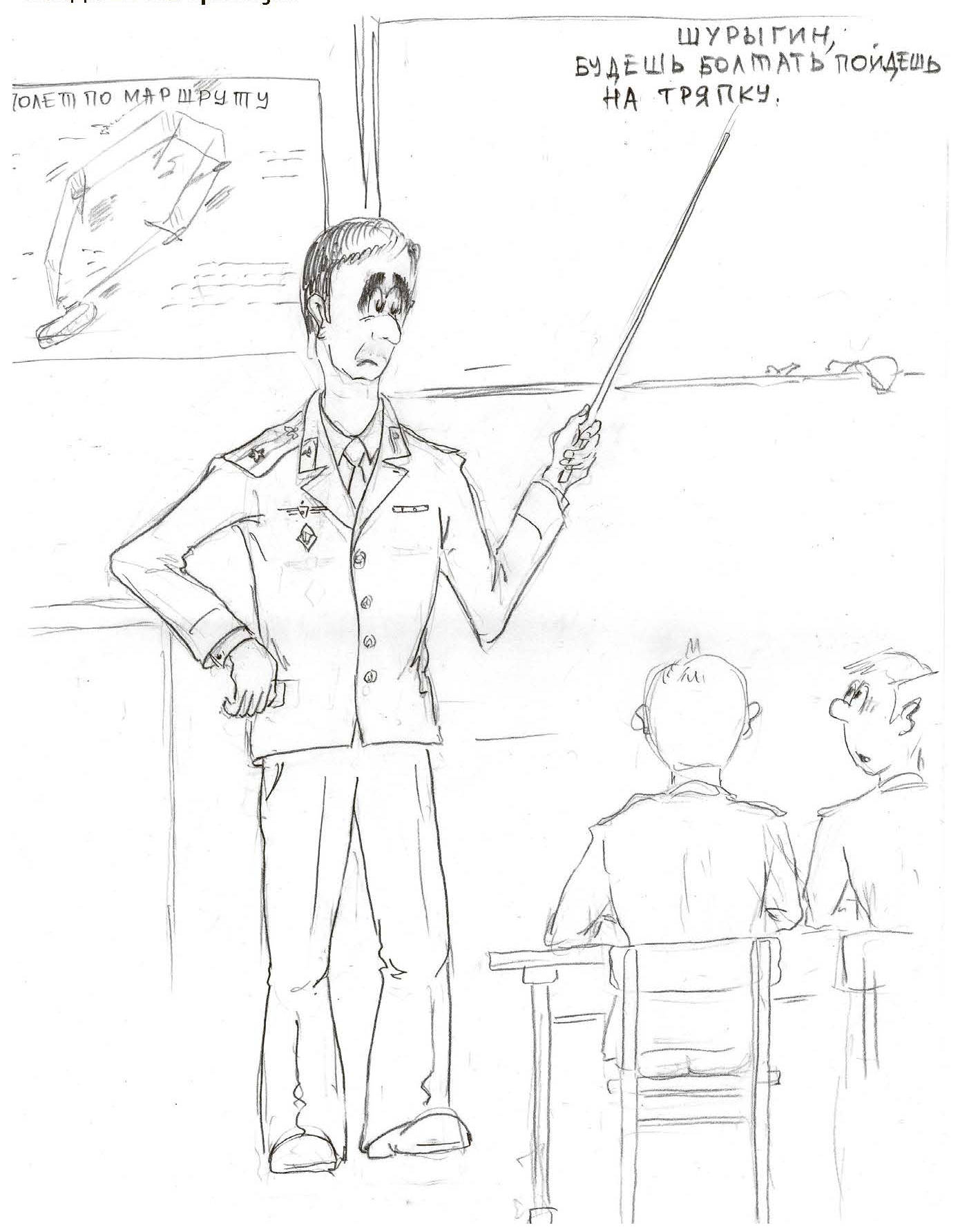
*
Физо, как и у всех школьников – самый любимый предмет. Головой работать почти не требуется, разве что при выполнении на ней стойки. Сегодня изучение приёмов рукопашного боя. Пётр Петрович, крепыш в синем костюме, даёт теоретические пояснения перед строем:
- Удар от ноги сначала блокируется одноимённой рукой. Если противник наносит удар правой ногой, то сначала удар блокирует правая рука. Затем свободная рука заводится под голень и производится заламывание. Всем понятно? Показываю практически.
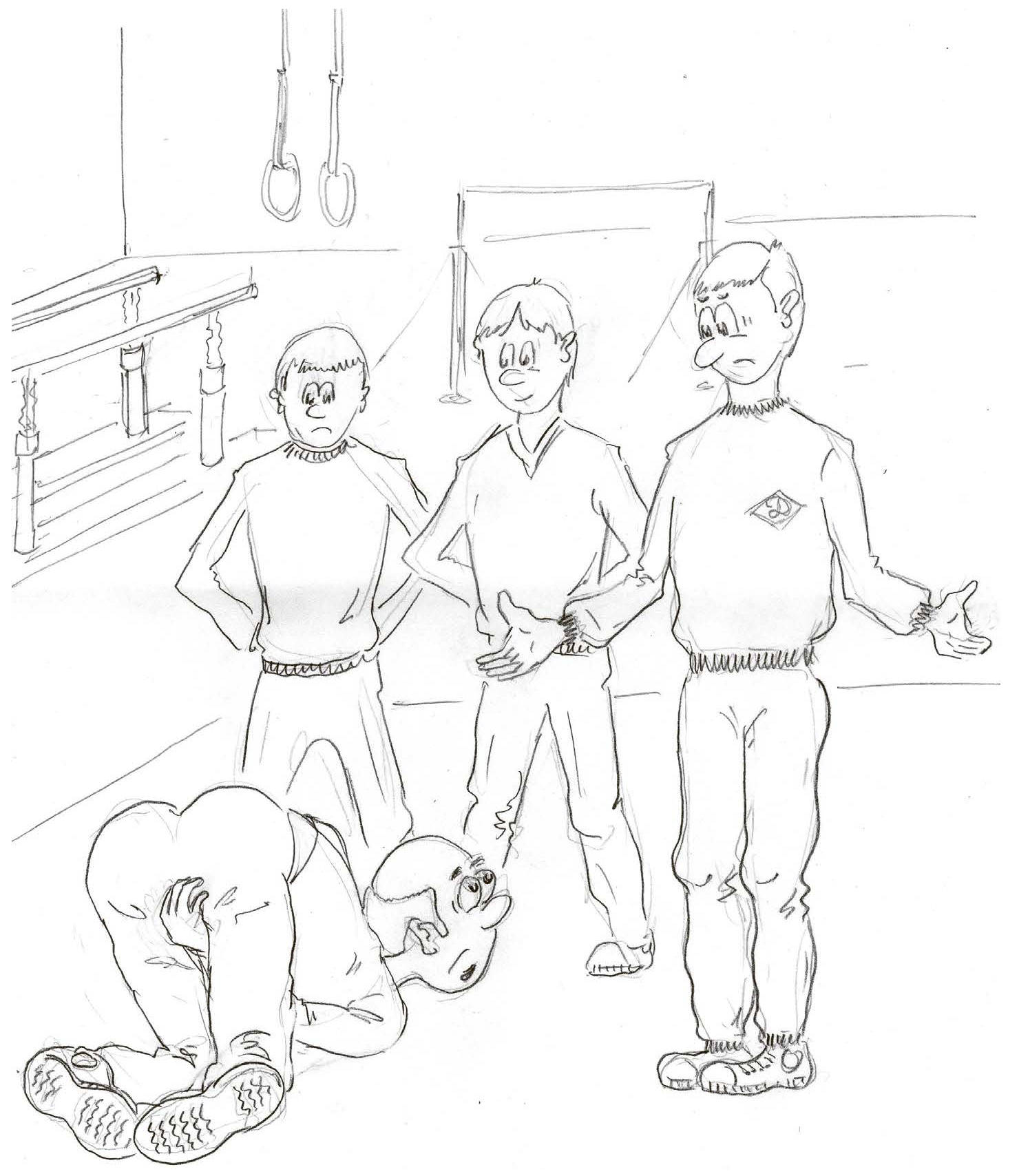
Пётр Петрович указывает пальцем на ближайшего курсанта:
- Подойдите товарищ курсант. Нанесите мне удар ногой в пах. Видя, что курсант стесняется бить преподавателя, подбадривает:
- Что Вы растерялись? Вы же будущий истребитель! Должны действовать решительно.
Курсант, смущённо выдохнув, ногой наносит Петру Петровичу силь- ный удар в пах. Пётр Петрович хватается за пах, падает как подкошенный и, превозмогая боль, хрипит:
- Ты почему с левой бьёшь?! Ты что – левша? Как ты комиссию прошёл? Левша хренов! Выгоню к чёртовой матери!
- Нет, я правша, - испуганно лепечет курсант, - у меня толчковая… ну… не эта…
Конечно, страшно. Ведь до сих пор никто не догадывался, что он на самом деле левша.
*
После обеда четвёртая пара. Самая тяжёлая. Непреодолимая сила закрывает веки и тянет голову к поверхности стола. Полковник Агитон монотонно объясняет радиоэлектронное устройство самолёта. У Агитона своеобразный говор. Когда после «ц» идёт буква «и» обычно все произносят Ы, а Агитон произносит И, точно как пишется:
- Тумблер «станция-станция, компас-станция» всегда стоит в положении «компас-станция».
Для не успевших записать повторяет:
- «Станция-станция, компас-станция».
Увидев откровенно спящего курсанта, склоняется над ним и так же монотонно спрашивает:
- Молодой человек у вас, что – менструация?
- Никак нет, не сплю, товарищ полковник, - вскочивший курсант честно хлопает глазами, уверенный, что правильно ответил на заданный вопрос.
*
Военная служба подразумевала «тотальную секретность». Нас официально предупреждали, что личная переписка находится под контролем. В то время это была довольно обычная практика. Но, не глядя на предупреждения, обязательно кто-нибудь умудрялся в письме выболтать военную тайну. Выдержки из таких писем зачитывались на общем собрании.
Понятно, что особой «военной тайны» никто из нас выдать не мог, поскольку не знал, а вот интересные места в письмах встречались. Один отрывок по общему признанию заслужил звания самого красивого.
Непосредственно сразу после поступления в училище на курсе молодого бойца, когда нам ещё не доверяли ничего серьёзней веника и лопаты, курсант отправил в письме такие строки: «Прости любимая, что пишу карандашом. Высота одиннадцать тысяч. Чернила замёрзли».
*
С КПП училища командиру роты звонит дежурный:
- К сержанту Голушко сестра приехала. Просит отпустить.
- Почему я его должен отпускать? – недовольно спрашивает ротный.
- Так издалека приехала, - сочувственно говорит дежурный, - очень издалека.
- Понятно, что издалека, - снова недовольно говорит Лебедев, - у нас тут со всего Союза учатся.
- Да… - немного смущённо оправдывается дежурный, - беременная она.
- Ну вот, - хлопает по столу ротный, - третья сестра к Голушко приезжает и опять беременная!
Но на встречу отпускает и даже небольшую увольнительную даёт.

*
Строевые занятия. Командир роты обучает выполнению команды «равняйсь».
- По команде «равняйсь» голова резко поворачивается на право. Подбородок приподнят. Правое ухо выше левого. И что б видеть грудь четвёртого человека.
Из заднего ряда кто-то передразнивает:
- Команду «равняйсь» нужно выполнять так, чтобы сопли летели на грудь четвёртого человека.
- Кто это сказал? – грозно спрашивает командир роты.
Но в ответ молчанье. Никто ничего не говорил. Никто ничего не слышал.
*
После ужина курсанты всей казармой уговаривают капитана Шавова, чтобы разрешил посмотреть футбольный матч по телевизору. Матч закончится в 23.00, а согласно распорядка дня в 22.00 – отбой. После отбоя включать телевизор категорически запрещается. Но матч очень важный и редкий, играет сборная СССР. Курсанты долго, дружно и жалобно ноют перед Шавовым. Он сегодня ответственный и только он может разрешить такое нарушение.
Шавов непреклонен:
- Не положено!
Курсанты продолжают конючить. Шавов уже не на шутку рассержен:
- Понимаете вы своими головами, что не положено. По уставу не положено! А Устав писали не какие-нибудь там Пушкин и Лермонтов, а умные люди.
Но курсанты продолжают ходить за взводным всей казармой, жалобно повторяя:
- Ну товарищ капитан… Ну товарищ капитан…
Капитан, наконец, не выдерживает и устало машет рукой:
- Ладно, товарищи курсанты. Я всё понимаю. В конце концов, вы не звери и я тоже не человек. Смотрите.
*
Первых пять месяцев мы жили «безвылазно». Все рассказы про уволь- нения, «солдат попьёт кваску» и т.д., оказались профанацией. Увольнения давали единицам, в исключительных случаях. Остальных же никуда не выпускали, и даже разговоров об этом не шло. Если приезжали родители, то для таких случаев на КПП училища существовала специально отведённая комната. Она так и называлась «Для свиданий».
Свидания проходили под неусыпным надзором дежурного по КПП. Он внимательно следил, чтобы родители не передавали курсантам запрещённые предметы и спиртное.
Дабы пресечь разведение в головах неположенных мыслей, нас усиленно привлекали к занятиям физическими упражнениями. С утра пробежка. Чередовалось – день три км, день шесть. Потом физическая зарядка.
Брусья, турник, упор лёжа и пресс. Днём обязательно пара по физо. Там специальное оборудование лопинг, колесо, батут, бассейн и т.п. Вечером уже занимались сами. Любители в футбол или баскетбол гоняли, качки на штангу, а были такие, которые вечерком вдобавок к утренним шести, ещё десять километров наматывали. Их обычно звали «лосями».
Очень скоро стали мы худенькими, волосы только, только отрастать начали (при поступлении всех постригли налысо), руки и ноги покрылись твёрдыми узлами мышц. Зато многие курить приобщились. Эта глупость, якобы, являлась признаком взрослости и самостоятельности.
И тут в декабре нас первый раз повели в город на танцы. Впервые за пять месяцев можно было увидеть живых девушек! Да что там увидеть, даже потрогать! Главное было от наряда отмазаться, дабы не остаться в казарме.
В доме культуры девушек оказалось мало. Но это неважно. Зато все живые и страсть красивые. Танцевали по очереди, остальное время просто любовались.
А вот Миша Плетнёв не танцевал. Он был постарше нас. Ему уже двадцатый годок шёл. Он в отличие от остальных, которые со школьной скамьи в шинели закутались, в этой жизни уже кое-чего повидал, поэтому к нашим восторгам относился снисходительно.
Миша вообще до училища шпаной был. Он уже и выпивать умел и, главное, драться любил. Когда Миша в училище поступил, отец его очень радовался.
- Молодец сынок, что поступил, - радовался папа, - на гражданке ты точно кому-нибудь башку свинтил и неизвестно чем бы всё закончилось.
Мише в училище очень тяжело приходилось. На гражданке-то ему слова поперёк никто не говорил. А здесь всё в приказном порядке, обозвать могут по-всякому, и возмущаться не смей. Не то, чтобы комунибудь в рыло заехать. За слово поперёк сказанное отчислить могли. Очень Миша страдал. Тяжело ему сдерживать себя давалось.
Но и танцы ему не в радость. Зайдёт, посмотрит, постоит немного и курить идёт. Сортир в доме культуры большой, тёплый. В зеркалах весь и с люстрой. Стоит Миша, курит очередной раз, в зеркало посматривает и сплёвывает.
Тут и заходят два подвыпивших парня. Уже не молодые, лет по восемнадцать. Чувствуется в армию скоро. Потанцевать им видно не досталось, всё курсанты разобрали, и, чувствуется, им это не понравилось. Но в танцевальном зале чего выступать, там курсантов целая сотня. Не захотелось им там выступать. А тут на тебе. Стоит эдакий молоденький, худенький. Форма на нём мешком висит. В чём душа теплится?
Но решили парни не просто его побить. Слишком это малой платой за испорченный вечер им показалось. Придумали они Мише такое наказание.
- Давай-ка, сынок, вставай на унитаз, - говорят они Мише, - и исполняй нам «прощай, труба зовёт». Только хорошо пой, старайся дядям приятное сделать.
В общем не догадались сразу ребята какое себе приключение поймали. Миша же после пятимесячного воздержания оттаивать начал. Судьбу благодарить. Возрадовался Михаил. Заулыбался. Душой просветлел. На щеках румянец выступил. Вздохнул облегчённо, и со всем запалом, что пять месяцев копил, ближайшему между зубов выписал.
Пролетели оба в тесной сцепке через кафельное помещение. А когда вскочили на ноги, оказалось у «ближайшего» губа пополам разошлась. Главное верхняя. И решили они, что унитаз им теперь ни к чему. В край- нем случае и в штаны можно. Миша, конечно, надеялся, что это только начало, но так ребята в дверь рванули, что больше он ничего уже не успел.
Хоть не удалось Мише совсем душу отвести, но всё-таки радостный в танцзал поднялся. Глаза светятся, улыбка не сходит. Мы за него радоваться начали. Надо же! До этого такой безразличный ходил.
- Ты чего такой? – спрашиваем.
- Да, ничего, - отвечает, - пойду ещё в сортире постою. Может, кто закурить попросит.
*
Позже, конечно, бывали случаи и более серьёзного назначения. Вот, к примеру, курсант… не хочется называть его фамилию, поскольку сегодня он человек женатый и положительный. Назовём его между собой Сидоров. Так вот с этим Сидоровым однажды приключилась история, которая портила ему настроение. Так в жизни повелось, кто-то в историю попадает и становится великим, остальные же в историю влипают.
Товарищи, естественно, обратили на это внимание и поинтересовались причиной наличия трагического лица Сидорова. Тот поведал ситуацию, в которой он оказался, в общем-то, по доброй воле, но дальше его воля перестала кого-либо интересовать, и скоро над Сидоровым должна была торжествовать совсем чужая воля. Причём торжествовать в прямом смысле – в торжественной обстановке с соответствующей записью в документах.
Дело начиналось, как у всех, банально. Встретила курсанта девушка, кино, мороженное и т.п., а вечером он оказался у неё в койке. И былото это всего один раз, но теперь мамаша данной девушки объявила Сидорову, что её дочь беременна и ему срочно необходимо на ней жениться. На самом ли деле девушка беременна Сидоров понятия не имел, но будущая тёща пригрозила, что, если не женится, то она обратится в политотдел Ейского училища.
В пору коммунистического контроля за нравственным состоянием будущих офицеров такая угроза была вполне реальна и отдавала приговором. История уже знала достаточно случаев, когда курсантов принуждали к счастливой совместной жизни именно таким способом. Сидоров предчувствовал, что это произойдёт и с ним. Но при этом Сидоров совершенно не знал: на самом ли деле его подруга беременна, а, если и беременна, то от кого? Поскольку он был крайне неопытен в данном виде деятельности, то на наводящие вопросы бывалых товарищей внятно ответить не мог. И самому ему в этом случае было не ясно: подлец он или жертва обстоятельств? Путаясь в собственных чувствах и показаниях, Сидоров ходил понурый, ожидая окончания так приятно начавшейся истории.
Товарищи же его, хотя и не знали интимных подробностей случившегося (по его же вине), но посоветовавшись в курилке, решили таки Сидорова не сдавать. Уж слишком всё подозрительно складывалось. Быстро и гладко. А мамаша девочки вместо предъявления убедительных доказательств беременности давила «на свадьбу» сверх всякой меры и не скупилась на угрозы.
Сидоров, скрывая страх и расстроенные нервы, но надеясь на своих товарищей, ответил на женитьбу полным отказом. Товарищи же приготовились к отпору. Тёща получив отказ, приступила к воплощению угроз.
Совсем через небольшой отрезок времени после сидоровского отказа, во время лекции в аудитории отворилась дверь, и вошёл дежурный по УЛО (учебно-лётному отделу):
- Курсанта Сидорова к начальнику политотдела! Срочно! Здесь Сидоров? – зычно спросил он.
Сидоров встал.
- Ага, - кивнул дежурный, - пошли.
Но тут вслед за Сидоровым поднялось ещё девять человек. У преподавателя возле доски и у дежурного брови поползли вверх:
- Вы чего?
- Мы пойдём вместе с ним, - ответили вставшие.
- Так ведь только Сидорова вызывают, - развёл руками преподаватель.
- Мы пойдём вместе с ним, - снова спокойно, но твёрдо повторили курсанты.
Преподаватель возмущённо выдохнул, но решил не превращать лекцию в балаган:
- Командир отделения? Ваши люди – разбирайтесь.
- Пусть идут, - так же твёрдо заявил командир отделения.
Преподаватель пожал плечами и отвернулся к доске. Дежурный тоже пожал плечами и повёл всех десятерых к начальнику политотдела училища полковнику Ене.
Когда все десятеро вошли в кабинет начпо, у того тоже удивлённо поползли брови:
- Я вызывал одного?
- Мы все по одному вопросу, - ответили те хором.
В кабинете у начпо, как и предполагалось, находилась вышепомянутая мамаша с лицом полным горя и глазами полными слёз. Очевидно, уже успевшая, не жалея красок, расписать обрушившиеся на неё страдания. Условно беременная жертва скромно сидела тут же на краюшке дивана.
- Я не понял, - снова переспросил начпо, - как это по одному вопросу?
- Ну, по тому же, по какому здесь и эти гражданки, - неумело объяснил один из курсантов.
- А вы что, знаете по какому они вопросу? – снова удивился полковник Ена.
- Так точно! - хором рявкнула вошедшая процессия.
- Вы что, все знакомы с этой девушкой? – Ена указал на сидевшую.
- Так точно, - снова рявкнула процессия.
Мамаша, кажется, начала соображать что происходит. Кровь бросилась ей в лицо, наглухо перекрыв слезопроводные каналы.
- Не верьте им, товарищ полковник! – заверещала она. – Вот он этот подлец, который мою дочку обесчестил!
Мамаша энергично ткнула в Сидорова.
- Та не! Если насчёт чести, то это не мы. Это ещё до нас кто-то постарался, – нетактично перебил её один из курсантов.
- Да-а-а, - дружно закивали остальные, растягивая гласную на эстонский манер.
- Что?! Как вы смеете?! – мамаша вскочила и грудью ринулась на курсантов, при этом, явно не добившись никакого эффекта. – Вы что это? Вы кто такие? Откуда вы вообще взялись?
- Как же ш кто? – снова влез нетактичный курсант. – Мы самые близкие друзья вашей дочки! В известном смысле, разумеется.
- Все? – удивился Ена.
- В том-то и дело, что все, - ответили сразу несколько голосов.
У сидевшей на диване отвалилась челюсть. Она в отличие от мамаши ещё не до конца разгадала смысл происходящего.
- Замолчите! – громко взвизгнула мамаша и со всей силы ударила кулаком в грудь нетактичного курсанта, что тот воспринял весьма иронично, а остальные с удовольствием гыгыкнули.
- Успокойтесь, - начпо вышел из-за стола, усадил мамашу обратно на стул и налил ей стакан воды.
- Мария Ивановна, я так понимаю, что Вы желаете счастья своей дочери? – спросил он, подождав, когда мамаша немного успокоится. – Но ведь брак требует обоюдного согласия, а тут я, честно говоря, не совсем понимаю, что происходит? Наверно Вам следует более откровенно поговорить с вашими детьми, а потом уже принимать какое-то решение.
Мамаша обессилено смотрела в одну точку, но её красное лицо попрежнему дёргалось от гнева. Она встала, схватила дочь за руку, и не глядя ни на кого, направилась к выходу.
- Я вас… - прошипела она на ходу, - я вас всех…
С этим прекрасный пол удалился. Ена снова сел на своё место. Посмотрел на курсантов. Хотел что-то сказать, и уже было открыл рот, но неожиданно опустил лицо и прикрылся ладонью. Его губы предательски растягивались в улыбке, чего он очень не хотел показывать. Справившись с собой, полковник поднял голову и строго приказал:
- Марш на свои места и, что бы я вас больше никогда не видел!
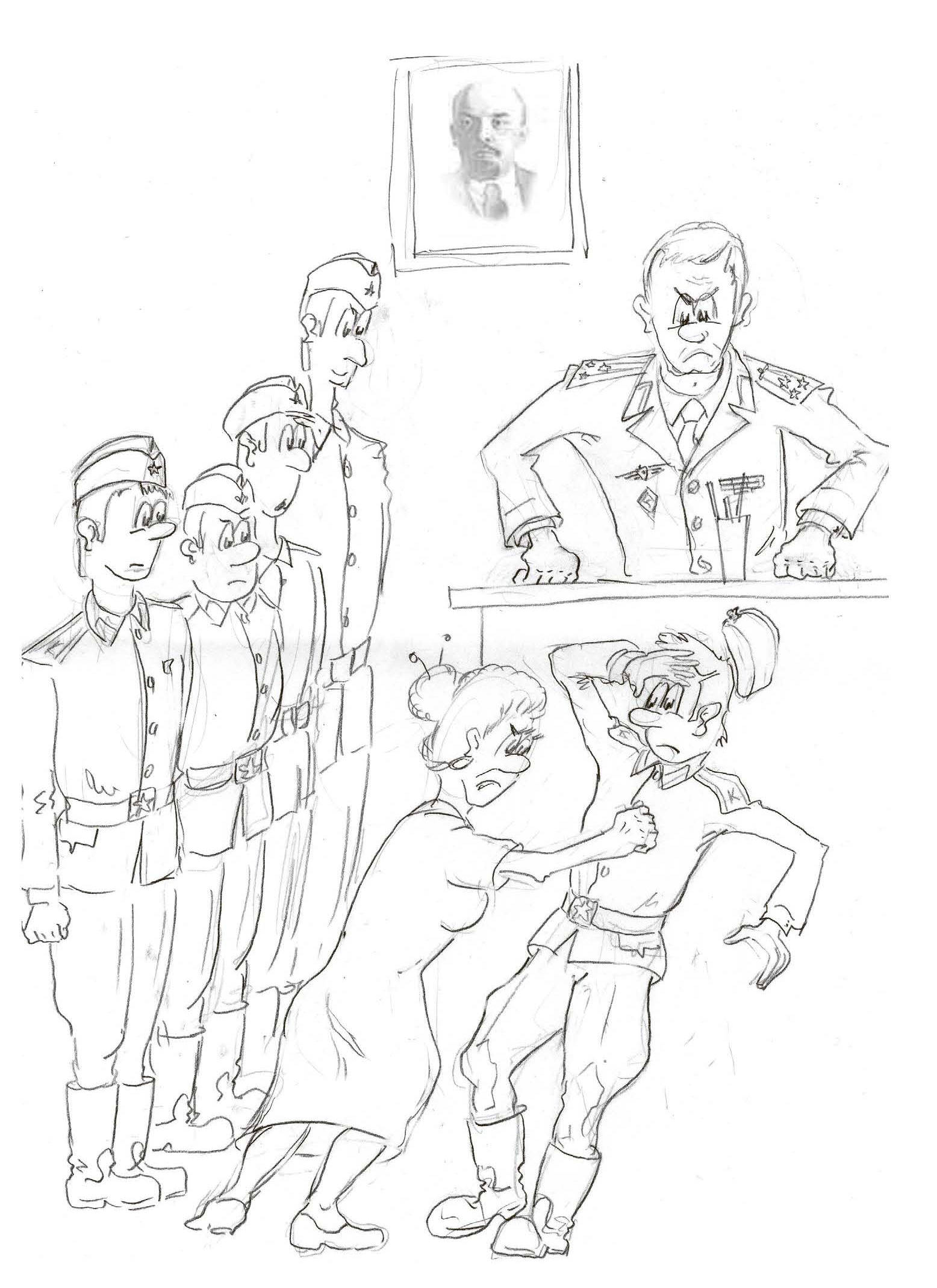
Миша Бороданков
Историю эту поведал Виктор Деревянко. Он с Мишей Бороданковым вместе учился на одном курсе и даже одно время спал под Мишей. В смысле, когда койки стояли в два яруса, то Мишина койка находилась прямо над деревянковской.
Миша был очень добрым, любознательным и доверчивым человеком. К тому же он был не лентяй, постоянно что-нибудь мастерил, любил копаться в технике. При этом инструменты он всегда носил с собой. В карманах у него постоянно находились плоскогубцы, напильники, отвёртки и даже молоток. На ночь Миша брал инструменты с собой в койку и там доделывал, что не успел за день. Поэтому Витьку Деревянко приходилось спать чутко и не приближаться к краю своей койки, потому, как зачастую ночью мимо пролетали падающие инструменты.
Когда подошло положенное время, курсанты первого курса приступили к своим первым полётам на учебном самолёте Л-29. Вот где-то почти в самом начале вывозной программы, Витьку довелось наблюдать необычную картину с участием Миши Бороданкова. Заруливает Миша после очередного вывозного полёта на центральную заправочную, а его инструктор высунулся из задней кабины по пояс и с остервенением лупит кислородной маской по Мишиному фонарю. Матерится при этом так, будто только что застукал Мишу со своей женой или, по крайней мере, Миша его обворовал.
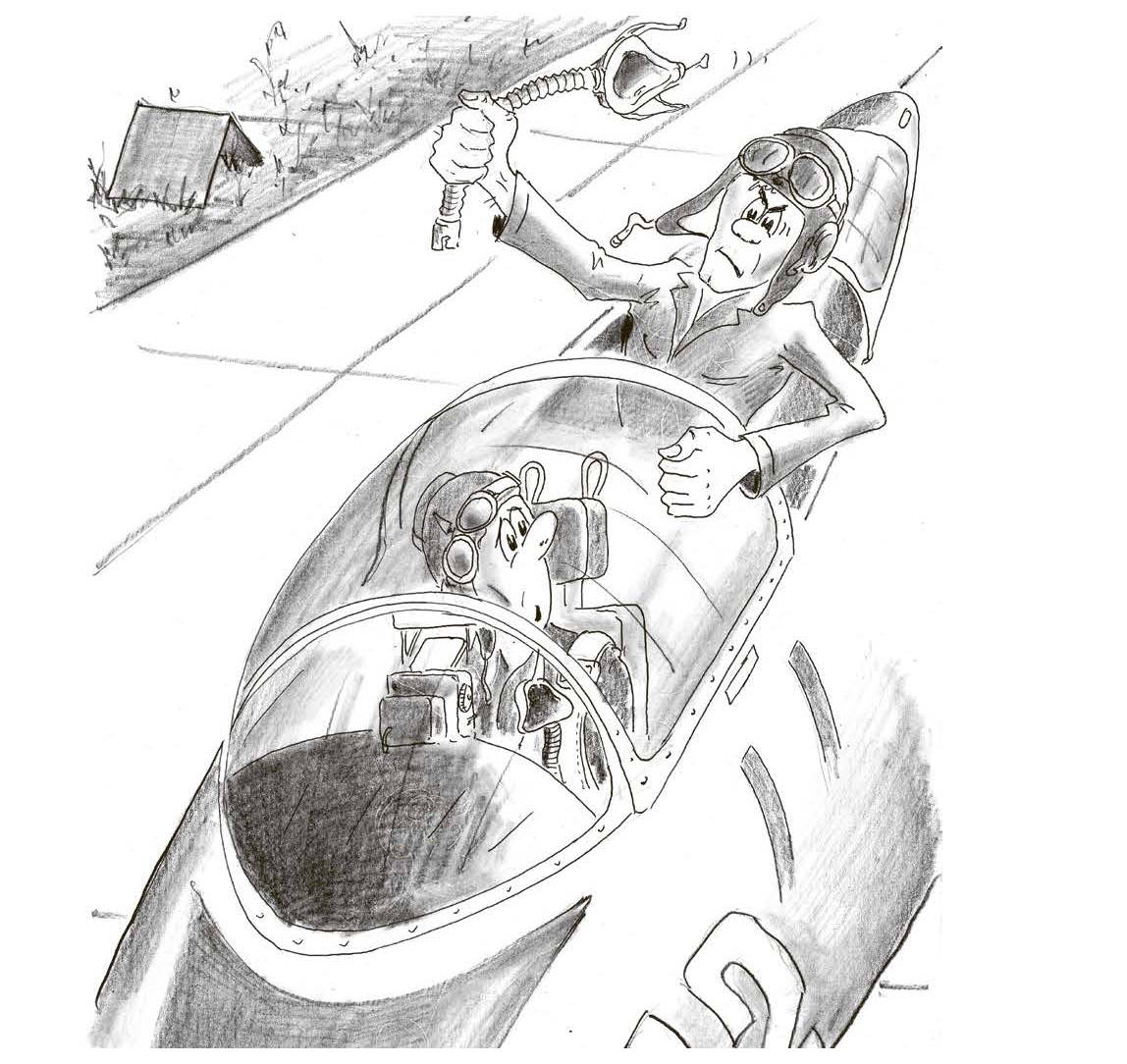
Когда самолёт на ЦЗ зарулил, инструктор из своей кабины выскочил и пытается Мишину открыть. А Миша изнутри держит, не даёт фонарь с фиксаторов снять. Инструктор так помучался, помучался, понял, что не получится и сделал вид, будто уходит, а сам за газоотбойником спрятался и ждёт, когда Миша из самолёта начнёт вылезать.
Миша фонарь открыл, начал вылезать. Тут инструктор как заорёт и к самолёту, а сам кислородной маской размахивает. Миша, уж на что никогда в спортсменах не числился, но одним махом инструкторскую кабину перемахнул, на крыло, через горгрот и бегом. Инструктор за ним. И гонится, главное, на полном серьёзе. По всему видно, что очень ему хочется Мишу догнать. Однако, победила молодость. Миша так драпал, что инструктор, не глядя на жгучее желание, догнать его не сумел.
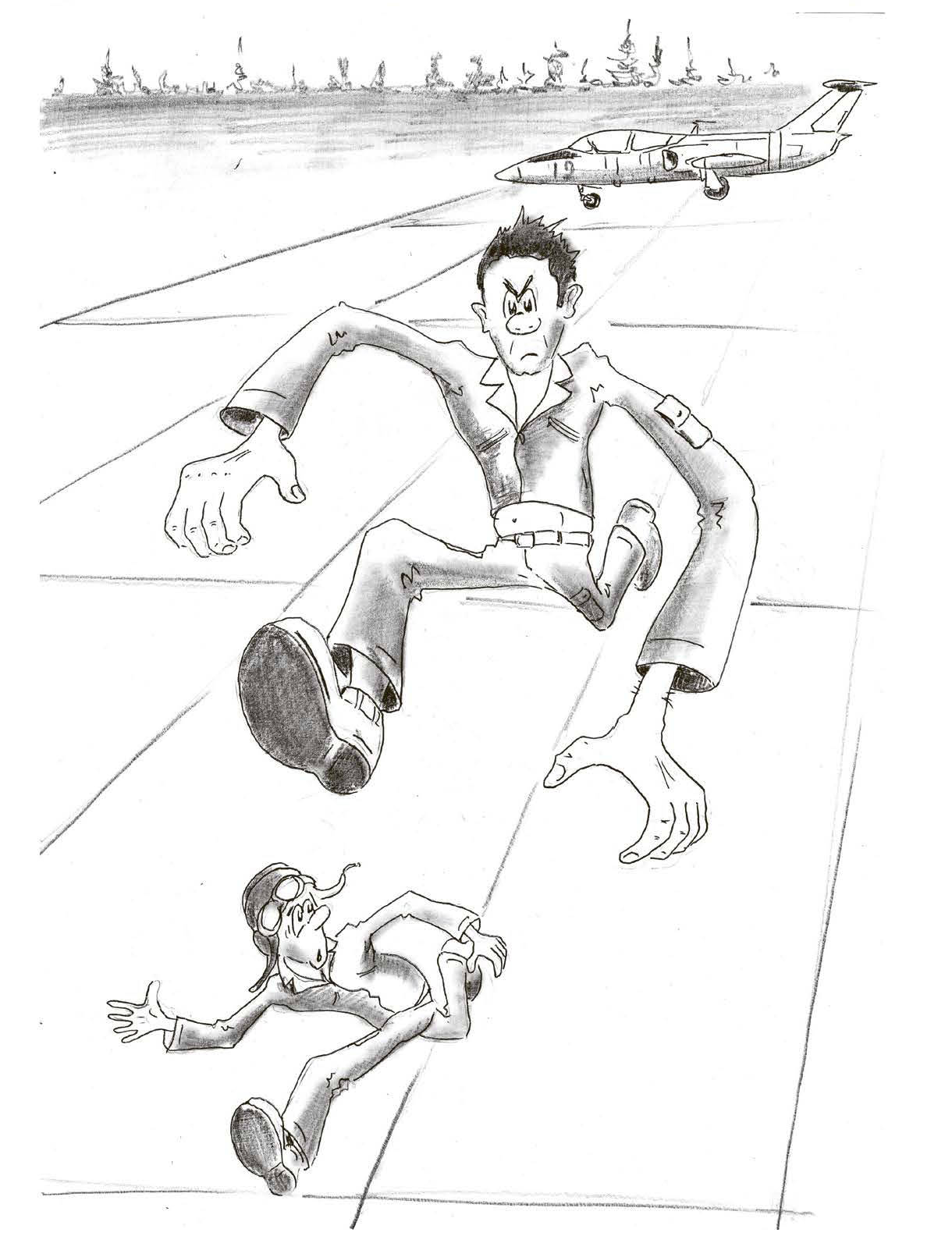
Бывает, конечно, что курсанты в начале полётов по неопытности всякие «пенки мочат». Инструктора, конечно, ругались, но относились всё же с пониманием. Сами ведь тоже не сразу асами стали. Когда-то тоже «пенки мочили» на первых порах.
На нашем курсе, например, Серёжа Круль в своём первом ознакомительном полёте доложил об ухудшении самочувствия. Нас почему-то перед этим так упорно пугали ухудшением самочувствия, что каждый курсант, идя в свой первый полёт просто считал почётной обязанностью обрыгаться. Инструктора потом признали, что переборщили с подобными запугиваниями. Хотя, что толку в запоздалых признаниях? Из-за этих глупых запугиваний, каждого пятого курсанта в первом полёте действительно стошнило.
Поскольку, как Вы возможно знаете, кабины учебно-боевого самолё- та санузлом не оборудованы и стюардесса там пакеты индивидуального пользования не разносит, инструктора при ухудшении самочувствия (признаков тошноты) советовали пользоваться целлофановым пакетом, в который завёрнута полётная карта. Со временем, конечно, эти пакеты изодрались и обтрепались, но в первом полёте они были совершенно новенькие, без дырочек и заусенцев.
Серёжа Круль, как один из многих в этот день, доложил об ухудшении самочувствия. Инструктор, естественно, прекратил полёт и вернулся на аэродром. На земле, как только Серёга открыл фонарь, первым к нему подскочил Касторнов, начальник штаба эскадрильи. Самый старый майор. Выхватив у Серёги из рук целлофановый пакет с абсолютно прозрачной жёлтой жидкостью, Касторнов крайне изумился:
- Надо же, одним чаем тошнило! Не понял, ты что, курсант, на завтрак не ходил?
Серёга начал мямлить, нечто непонятное, а инструктор в задней кабине опустил глаза и молчал.
- Это как же понимать? Где доктор? – не унимался Касторнов. - Почему курсант перед полётом не завтракал. Доктор, ты же должен за этим следить!
Доктор, который естественно присутствовал рядом, поскольку «прошёл» доклад об ухудшении самочувствия, тоном оскорблённого человека выпалил:
- Курсант прекрасно позавтракал, товарищ майор. И дело совершенно не в завтраке. Просто в руках Вы держите мочу.
Касторнов 25 лет прослужил в авиации, но не мог предположить, что под ухудшением самочувствия скрывается обычное желание сходить по маленькому. Естественно, Касторнову тут же захотелось раздавить злосчастный пакет у Серёги на голове, но он же этого не сделал. К первокурсникам было принято относиться лояльно, проявлять терпение.
Тем удивительнее выглядело поведение Мишиного инструктора, который нешуточно рвался побить Мишу настоящим образом.
Когда курсанты догнали Мишу и убедились, что инструктор больше не гонится, с удивлением стали расспрашивать Мишу о происходящем.
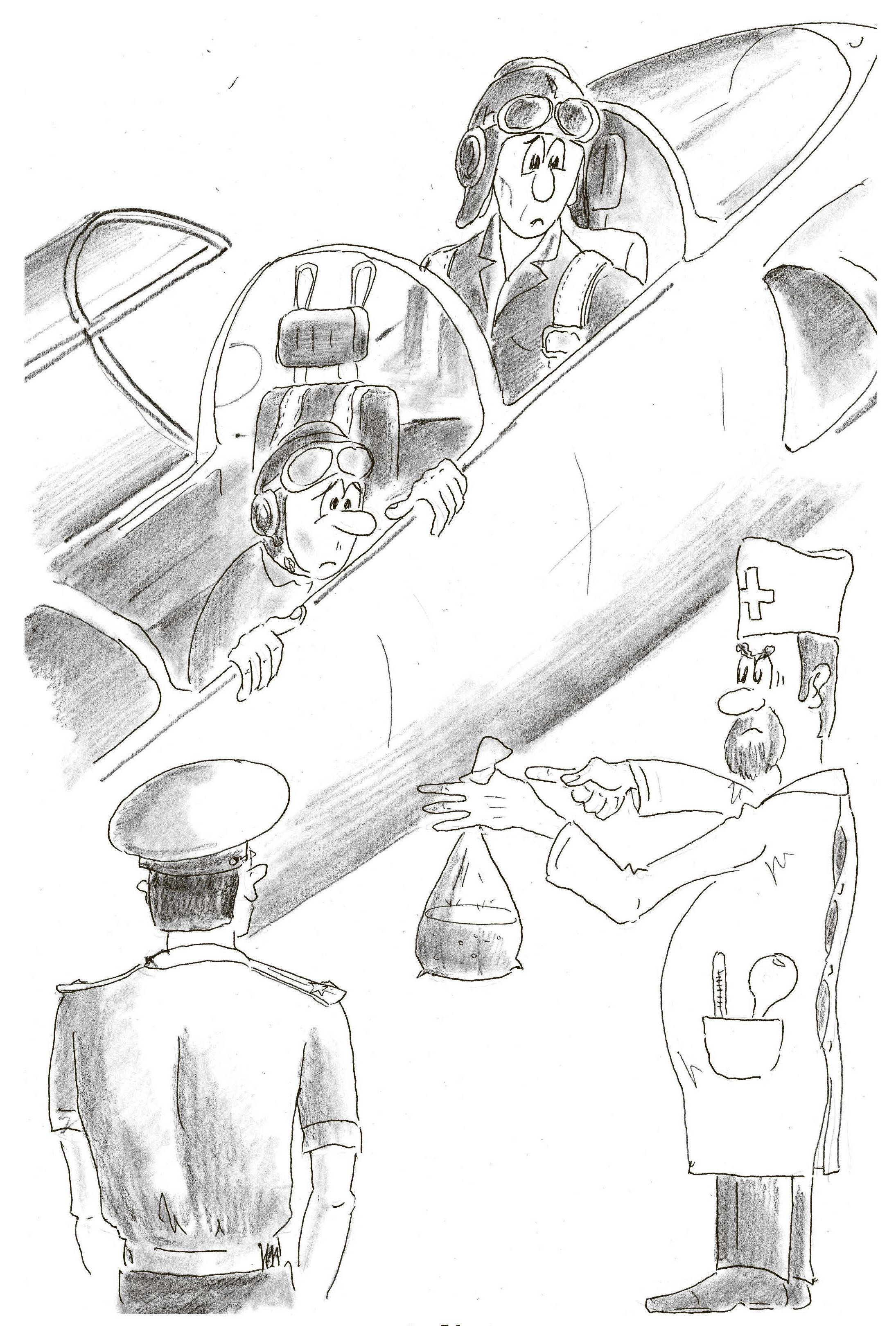
Оказывается, Миша своими действиями вполне заслужил неадекватное отношение к себе со стороны инструктора. И виной всему оказалась излишняя, природная любопытность Бороданкова. Какой-то курсант старшего курса, узрев бесхитростность и доверчивость Миши, решил над ним подшутить и наврал ему, что мухи в полёте взрываются от перегрузки.
Миша со своим любознательным характером, не утерпев, когда приступит к самостоятельным полётам, решил узреть сие чудо в вывозном, т.е. когда инструктор находится в задней кабине. Он банально насобирал мух в спичечный коробок, взял этот коробок с собой в полёт, выпустил мух перед началом пилотажа, и стал дожидаться когда же они начнут лопаться от перегрузки.
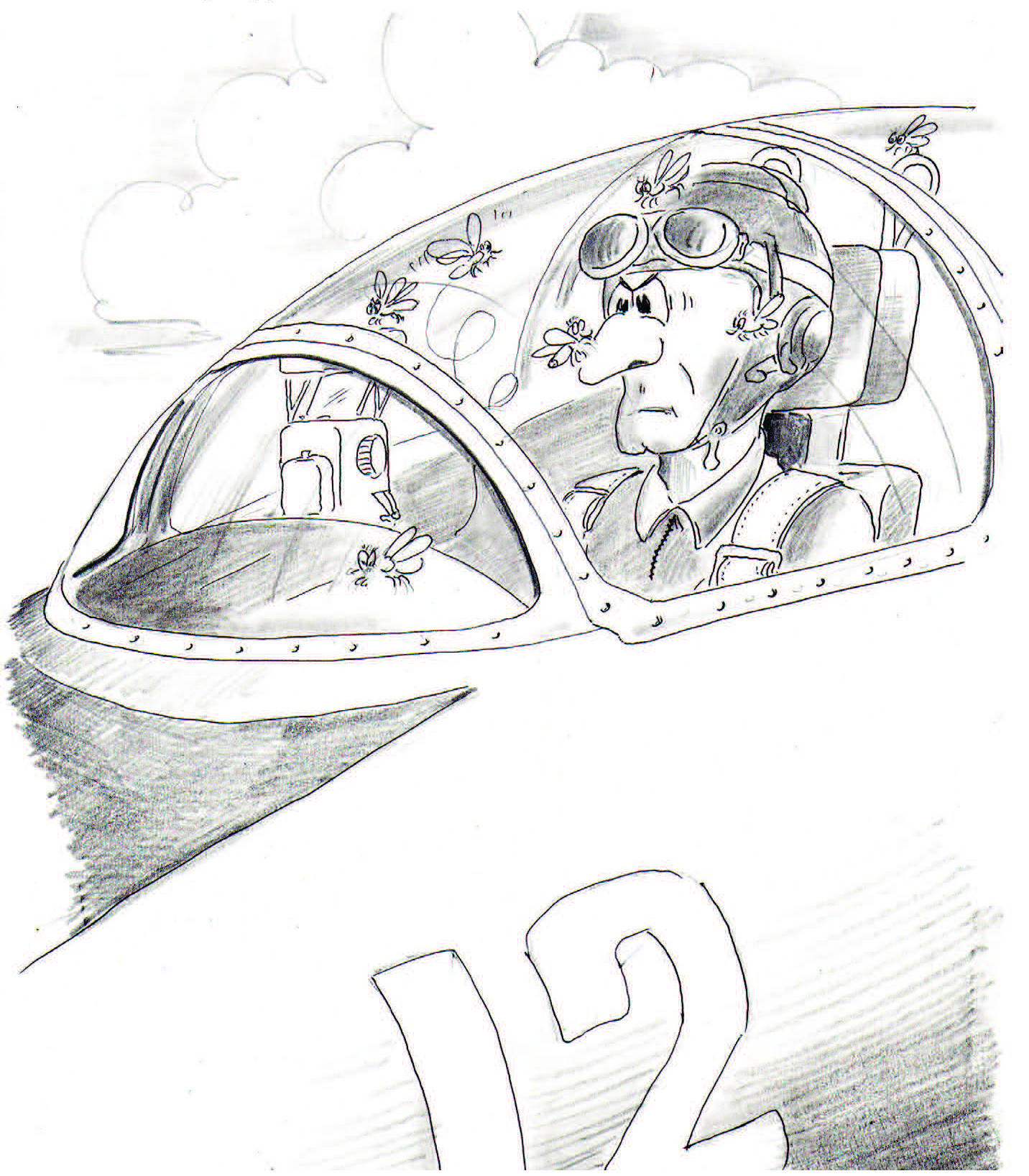
*
Виражи закончили. Дальше по заданию предстояла отработка левого и правого штопора. Вот тут-то в кабине инструктора объявилась муха.
Когда показалась муха, инструктор очень расстроился. В малень- ком пространстве кабины мухе просто негде больше летать кроме как перед носом пилота. Мало того, что это неприятно, это ещё и страшно отвлекает. На некоторых этапах полёта требуется скорость переключения внимания до семи раз в секунду. При этом необходимо постоянно держать в поле зрения всевозможные аварийные табло, контролировать работу бортовых систем и двигателя. Обязанность лётчика моментально обращать внимание на проблеск аварийного «транспаранта» или лёгкое отклонение контрольной стрелки. Передвижения же мухи невольно создают имитацию таких отклонений, и лётчик постоянно вынужден на эту муху отвлекаться.
Но это ещё не всё. Муха регулярно предпринимает попытки сесть на нос пилоту. Дело в том, что летом на самолёте Л-29 пилот постоянно потный. Системой кондиционирования Л-29 не оборудован, а самолёт на открытой стоянке под солнцем разогревается настолько, что до него невозможно дотронуться рукой. После запуска двигателя фонарь герметически закрывается и в кабине наступает «парниковый» эффект. Если при открытом фонаре кабина хоть как-то проветривается, то теперь всё. Солнечные лучи через фонарь нагревают внутренности кабины, но разогретому воздуху деться теперь некуда. Температура в подфонарном пространстве в этом случае достигает 80 градусов по Цельсию. «Обдув» же кабины вступает в работу только после взлёта на большой скорости и тогда становится легче, но до этого момента минут пятнадцать лётчик вынужден сидеть как в парилке.
Естественно, все эти пятнадцать минут инструктор с курсантом обливаются обильнейшим потом, который вытирать не принято, да и бесполезно. Поскольку всё тело пилота покрыто одеждой, руки в перчатках, на голове шлемофон и кислородная маска, открытой остаётся только небольшая часть лица с естественно выпирающей его частью – носом. Конечно, мухе в малюсеньком, замкнутом пространстве кроме потного лётчицкого носа с удовольствием посидеть больше не на чем. Её можно понять. Но человек так устроен, что не в силах вынести сидение мухи на собственном носу, хоть оно мирное и неугрожающее. Даже в минуты особой занятости и загруженности он всё равно будет непрестанно дуть на муху. Хотя это только звучит легко. Во-первых, чтобы дуть себе на нос – это надо очень хорошо прицелиться. А вовторых, даже если получиться точно дунуть, это победа совершенно временная. Как закоренелый преступник непременно возвращается на место совершения преступления, так и муха обязательно снова прилетит на нос.
У лётчика возникает непреодолимое желание прикончить ужасное насекомое. Но правая его рука держит ручку управления самолётом, а левая рычаг управления двигателем. Беспричинно бросить их возможно в крайне редкие моменты и весьма кратковременно.
К тому же, как мы понимаем, прикончить муху возможно только стукнув по ней. Как назло мушиная реакция намного превышает человечью, поэтому бить по ней нужно хлёстко, то есть резко, иначе она успеет улететь. Но муха, если не сидит на пилотском носу, то садится на какой-нибудь тумблер или прибор, по которому бить категорически запрещается. Даже потихоньку, не то, чтобы хлёстко. Поэтому убивание мухи процесс нервный и изнурительный. На убивание одной мухи, бывает тратится половина полёта, а то и больше.
После окончания полёта останки погибшей мухи обычно тщательно удаляются техником самолёта. Труп мухи в маленьком пространстве кабины – весьма заметная фигура.
Когда инструктор увидел в кабине муху, настроение у него по понятным причинам испортилось. Но настроение – это дело житейское. Оно со временем проходит. Так уж устроена человеческая натура. Когда же он увидел вторую – его ошарашило. Бывает, причём крайне редко, что в кабину проникает муха. Это впоследствии служит поводом для разных рассказов и обсуждений, так как муха – всё же явление редкое и нехарактерное. Но две мухи в одной кабине – явный перебор.
Когда инструктор обнаружил третью муху, он впал в полнейшее оцепенение. Появление сразу трёх мух через двадцать минут после взлёта на высоте четырёх тысяч метров свидетельствовало о потусторонней мистике происходящего. Следующим номером следовало ожидать появление НЛО или на худой конец шаровой молнии. Но, ни НЛО, ни шаровой молнии не появилось. Дальше появлялись только мухи. Причём они появлялись через отверстие в остеклении, отделяющем кабину инструктора от кабины курсанта.
Осознав это, инструктор ослабил привязные ремни и прильнул к оному остеклению. Он стал внимательно всматриваться в кабину курсанта. Оказалась она переполнена мухами.
Только Миша Бороданков, с его усердием и скрупулёзностью умудрился в спичечный коробок напихать столько мух. Их набралось не меньше полусотни.
Инструктор, всё ещё не веря в страшное подозрение, тактично поинтересовался у Миши о происхождении мух по переговорному устройству. Миша, со свойственной ему честностью и добродушием доложил о проводимом им эксперименте.
Инструктор не обучался в школе этики и не знал, как правильно сдерживать свои чувства. Весь облепленный мухами он начал орать так, что, возможно, его слышали граждане, проживающие четырьмя километрами ниже. Больше всего в своей речи инструктор почему-то обижался на ухогорлоноса.
- Ладно, психиатр тебя к лётной работе допустил, - кричал он Мише, - но как ухогорлонос тебя проглядел? Он же заглядывал тебе в ухо и обязательно должен был заметить, что у тебя нет мозга! Он должен был через дырку в ухе увидеть, что у тебя в голове пусто!
При этом он в бессилии махал руками, хотя понимал насколько это бесполезно. Измахав остатки энергетического запаса, инструктор снова впал в ступор. Нужно было решать: продолжать полётное задание, как ни в чём не бывало или докладывать о его прекращении. На пилотаже отвлекаться на мух времени точно не будет. Но что докладывать? Прекратил задание потому, что тебя облепили мухи? Это всё равно, что громогласно обозвать себя «Говном». Даже не обозвать, а присвоить себе это позорное звание навечно, без права реабилитации. Ведь общеизвестно на чём любят сидеть мухи.
Других причин внезапного прекращения задания придумать было невозможно. Инструктор, скрипя зубами, ногтями, веками и даже бровями принял решение о продолжении дальнейшего задания. Отобрав у Миши управление, он лично выполнил оставшиеся штопора, пикирования и горки. При этом мухи сидели у него на носу, губах, подбородке, ползали по лицу во всех направлениях, пытались залезть за воротник, устраивали погони возле глаз и вообще, веселились, как могли. Он пытался не обращать на них внимания. В бессильной злобе глотал слюну и уже не отмахивался.
Сжав нервы в кулак, и стиснув зубы, он ждал только того момента, когда зарулив на стоянку он выключит двигатель, откроет фонарь и со всей накопившейся пролетарской ненавистью «перетянет» этого идиота курсанта кислородной маской вдоль спины. Да, именно вдоль спины. Ненавистную, поганую морду трогать нельзя. За это могут и в звании понизить. А со спиной ничего не случится. Будут синяки, гематомы, но его поймут, его простят. А если и не простят, он тоже к этому готов. В такое дурацкое положение его никогда ещё никто не ставил.
Дальнейшие события, собственно, Вам известны.
К самостоятельным полётам Мишу так и не допустили, и в итоге он был отчислен из училища. Повлиял ли приведённый случай на это или нет неизвестно. Через два года Миша всё же поступил в Качинское лётное училище, где начал успешно осваивать лётную программу. В дальнейшем следы его затерялись. Возможно он уже большой авиационный начальник. Если это так, то его подчинённым повезло с добрым и отзывчивым руководителем.
Как автор познакомился с художником
Санька Голобородько в общем-то похож на своего полного тёзку – известного киноартиста. Только Санька повыше маленько и посимпатичнее. Поскольку натура он творческая, то мы с ним сразу друг друга вычислили и сошлись.
Часто вспоминали, как в школе уроки напролёт тайком рисовали в тетрадях всевозможные сюжеты, подражая великим художникам. При этом настолько старались, что забывали обо всём на свете. Потом давали рисунки посмотреть одноклассникам, в надежде заслужить высокую оценку своего творчества. Но возвращали рисунки обратно, как правило, с подрисованными усами, очками и гениталиями. Подрисовщики всегда непомерно радовались своим дорисовкам, и ждали такой же реакции от нас, не замечая наши вытянувшиеся лица.
Но любовь к творчеству – это не главное, что нас объединяло. Переполненные юношеским максимализмом, мы оба стремились воспитывать волю и закалять дух. Ведь мы же собирались защищать Родину, значит готовым быть надо ко всему. Для этого мы изобретали всякие методы, которые способствовали бы возвышению духа над плотью. Хотя методы, которыми мы пытались достичь желаемого результата, одобрялись не всеми. Многими вообще не одобрялись. Если уж совсем точно, то кроме нас двоих - больше никем.
Как-то, сидя возле летнего бассейна, мы любовались прыжками в воду с десятиметровой вышки. Спортсмены поднимались на самый верх, выходили на подкидную доску, красиво подпрыгивали, и, красиво пролетев, отвесно входили в воду, почти не создавая брызг. Нам показалось вполне естественным желание залезть на верхотуру и тоже сигануть разочек.
- Ну что, пошли? – спросил меня Санька.
- Конечно, - уверенно ответил я.
И мы пошли. Когда поднимались по лестнице, в общем-то ничего необычного не заметили. Просто было немного неожиданно, что с подъ- ёмом всего на метр, высота казалось, растёт на целых два и звуки как бы удалялись. Становилось чем выше, тем тише. А самый верх вообще оказался окутан подозрительной тишиной. Звуки, конечно, были, но доносились они как бы из другого измерения. Тут же царила жутковатая тишь.
Но это ещё не все странности. Под нами не оказалось бассейна. Мы, конечно, понимали, что за то время пока мы поднимались его украсть бы не успели, однако, из-за края верхней площадки он не торопился показаться. Мы к этому краю медленно приближались, а его всё нет.
Причём ноги предательски начали подгибаться, так что к самому гадскому краю мы добрались уже на четвереньках. Только тут и обнаружился бассейн. Да какой к чёрту бассейн? Неимоверно маленькая квадратная лужа плескалась у подножья вышки. Казалось, что, даже слегка оттолкнувшись от вышки, непременно перелетишь эту лужу-бассейн и грохнешься уже с другой стороны. Непонятно как прыгающие до нас вообще умудрялись в неё попасть?
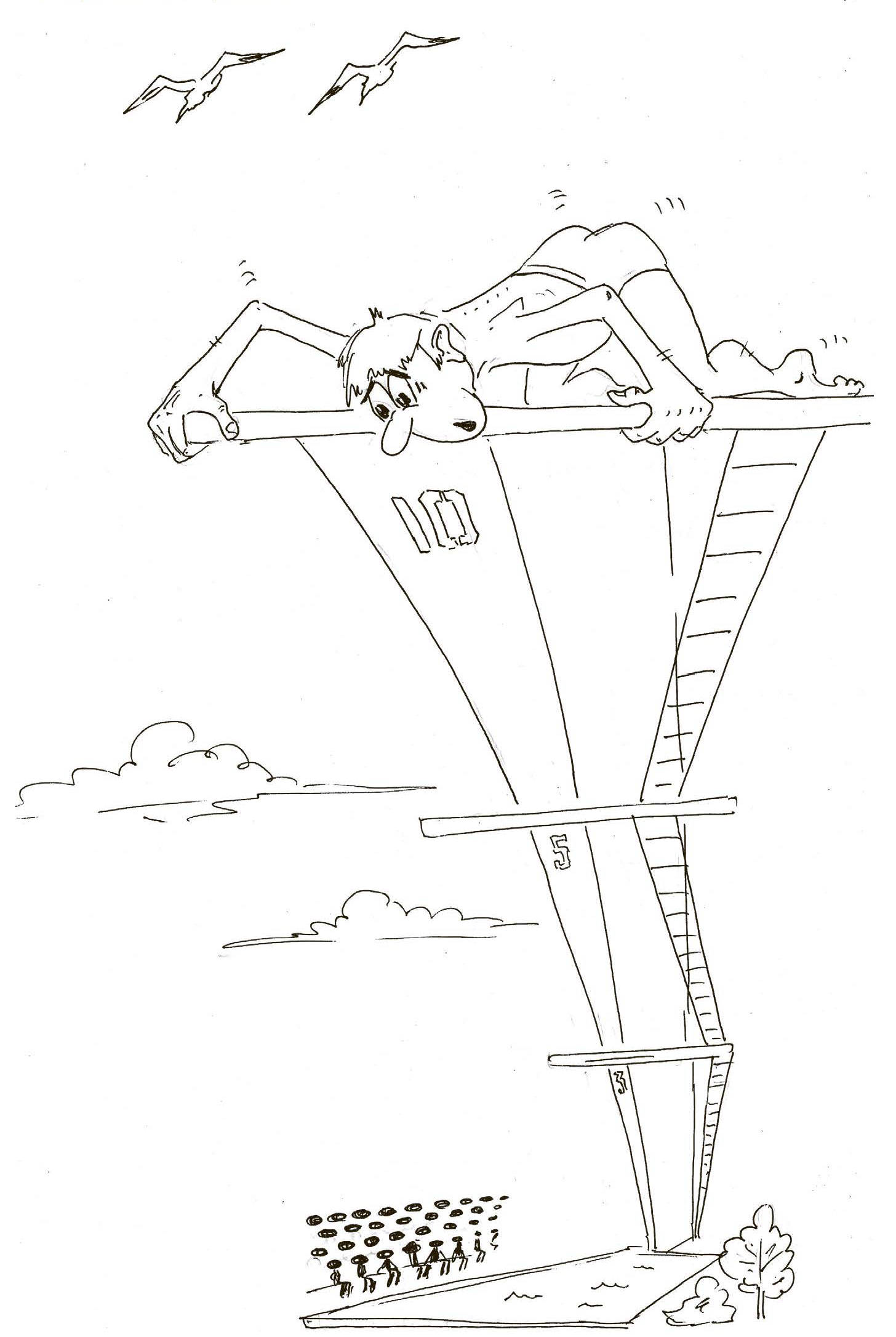
Ошалело посмотрев друг на друга мы, не сговариваясь, попятились назад и маленько постояли в задумчивости. Постояли понятно так же на четвереньках. Ни о каких прыжках речи уже не шло. Но встала другая проблема. Мы же не могли теперь просто так спуститься вниз по лесенке. Позор, который ожидал нас в этом случае, был бы поистине огромен и несмываем.
До этого нас обучали прыжкам с трёхметровой вышки, но разница между трёхметровой и десятиметровой вышками оказалась абсолютной. Нас никто не предупреждал, что десятиметровая площадка располагается ближе к Луне, чем к Земле. Надо было что-то решать, и решать немедленно.
- Давай прыгнем с семиметровой, - сказал Саня, - а если кто захочет пошутить, скажем, чтобы сам повторил.
Намного ли семиметровая окажется ниже я не представлял, но деваться было некуда. Голобородько решительно спустился на пролёт ниже и без подготовки «солдатиком» сошёл с доски. Я, стараясь не думать ни о чём плохом, без остановки последовал за ним.
Разница к счастью между двумя уровнями оказалась значительной. Семиметровая вышка располагалась намного ближе к воде, хотя, кто не стоял на десятиметровой, вряд ли сможет эту разницу оценить. Тем не менее, мне показалось, что я шагнул в бездну. Летел я долго. Даже «долго» - это не то слово. По моим подсчётам я летел минут сорок. За это время я обо всём успел подумать и всё прочувствовать. Единственная радость – что я летел вниз ногами.
Встреча с водой оказалась неожиданно жёсткой. Очень неожиданно и очень жёсткой. Трёхметровые вышки – намного лояльнее. Ну и вдобавок особенности имеются… в общем ноги надо при прыжке плотнее сдвигать. Вынырнул я, конечно, с нейтральным выражением лица. Будто дело для меня это плёвое, можно сказать будничное. Не мог я другое лицо товарищам из воды показать. Смотрю, Саня тоже из воды выбирается, и лицо тоже отрешённое. Как бы он вроде занимался привычным делом и даже забыл на него обратить внимание.
Товарищи наши ничего не заподозрили. Но мы то с Санькой помним, как от края на карачках пятились. Это нас сильно угнетало и не давало спокойно жить. Не такими мы раньше в своих глазах выглядели, не так себя на десятиметровой вышке представляли.
Лежим мы с ним на крыше нашей жёлтой казармы. Любили мы там с ним лежать. Никто не мешает, не шумит. Ну и правильно, какому дураку придёт в голову на крыше парится? А настроение ни к чёрту. Не ожидали мы от себя такой слабости. Вроде дезертиров получаемся.
Но я то ничего. Я человек смирный. А Санька кипяток. Бурлит по этому поводу. Непереносно ему прыжковое воспоминание. Тонкая натура. Шибко ранимый. Подошёл он к краю крыши, смотрит вниз и мне показывает:
- Три этажа. В сущности та же высота. Совсем не высоко. Я что, получается, с четвёртого этажа на землю смотреть боюсь? Глупость какая!
И берёт мой дорогой Саня, и виснет на карнизе на руках с крыши третьего этажа. Смотрю я на это дело, а куда деваться? Нельзя же товарища в таком положении одного бросать. Висну рядом с ним. Благо парапет бетонный и вокруг никого нет. А то неизвестно, что кому при виде нас в голову взбрендить может? Повисели так для порядка с минуту. Силушки тогда было не занимать. Потом вылезли. На душе легче стало. Значит, не совсем мы пропащие люди. Может ещё на что в этой жизни сгодимся.
Пошли мы с Саней на следующий день к бассейну и с семиметровой вышки головой вниз. Хряп! Знай наших! Только вот особенности не пропали. Оказалось теперь голову нужно подальше между рук запрятывать, а не как танкист из люка выглядывать. Отшиб, в общем, я голову. И кто знает, может на всю жизнь?
А ещё через день мы и с десятиметровой сиганули. Не головой, конечно, ногами. Но всё-таки!
Я то после этого успокоился. Проверил себя – и хватит. А Санька он не такой. Натура вроде утончённая, а упёртый как хохол. Хотя так и есть?
Отобрал как-то командир роты гражданскую одежду у двух наших товарищей. Сложил её у себя в канцелярии и ушёл обедать. Ходим мы кругами около канцелярии. Переживаем за товарищей. Времена те победней были. Где они себе другую одежду достанут. Только если из отпуска привезти. А до отпуска ещё о-го-го сколько.
Тут Санька и спрашивает:
- А закрыл Лебедев окно в канцелярии?
Глянули. Точно, не закрыл. Но что толку? Это ведь третий этаж, а между окнами расстояние приличное. Кто же рискнёт из окна в окно по внешней стене переходить при таком-то расстоянии? Не бывало ещё такого. Там и зацепиться не за что. Потому и оставил ротный окно открытым. Нечего ему опасаться.
А Санька говорит:
- Я через окно перейду.
Мы отговаривать. Только где там? Встал Санька на подоконник и хлоп ногу с рукой в соседнее окно. Стоит, вроде буквы «Х». А дальше что? В том окне его никто не ждёт и держаться там не за что. В этом, в общем-то, весь фокус и заключается. Никто не знает, как ему удалось на том подоконнике удержаться и вниз не сорваться. Да и он потом толком объяснить не мог. Не знаю как у него, а у нас всё внутри похолодело, когда мы на это смотрели.
Залез Саня в канцелярию. Выкинул оттуда шмотки нужные и снова на подоконник. Ну тут-то как мы его руку поймали уже не отпустили. Вдесятером тянули. Вышел из окна наш Санька целый и невредимый. Почёт, конечно, и уважение.
Может кто подумает: стоило ли из-за шмоток так рисковать. Только он не из-за шмоток. Ему главное себя перебороть. Ему вместо Голобородьки – Переборотькой надо было родиться.

Лет через двадцать после этого случая в Америке фильм «Человекпаук» сняли. Смотрел я. Что Вам сказать? Слабовато. С присосками да паутиной по стенам лазить ума много не надо. Попробовал бы он как Голобородько в сапогах и майке – тогда бы хоть сравнить можно было.
Так что первый человек-паук не в Америке появился, а появился он в Ейском лётном училище. И американскому чтобы до нашего дотянуть, ещё маленько потренироваться требуется.
Командир роты долго потом допытывался у кого же от его канцелярии ещё ключ есть. Но так ничего и не выяснил. Сменил замок и успокоился.

Карелкин
Служил я одно время вместе со Славой Карелкиным. Он тоже Ейское училище окончил, только пораньше. Правда, закончил он его не по лётному профилю. Списали его с лётной работы, но чтобы государевы деньги зря не расходовать, разрешили доучиться и получить диплом. Стал он офицером боевого управления, проще говоря, руководителем полётов дальней зоны. Существовала такая практика, и на каждом курсе несколько таких человек обязательно было.
Поскольку он уже не являлся лётным лицом, то мог позволить себе всякие вольности, чего остальные себе никак не позволяли. Остальных курсантов гоняли как Саврасок, а с «нелётного» что возьмёшь?
Однажды в городе Ейске, будучи дневальным по роте, Слава запросто отправился на рынок за сигаретами. В принципе это представляло из себя такой букет нарушений, что «лётному» курсанту даже во сне бы не приснилось столько набезобразить. Но для Славы, как уже сказано, самое страшное было позади.
Идёт Слава по рынку, сигареты выбирает. Мороженное прикупил. Лето. Настроение хорошее. Во рту сладко. Откуда ни возьмись, вырастает перед ним командир взвода капитан Шавов. Видит, что Слава в повседневной форме одежды. Значит не в увольнении. В увольнение только в парадной выпускают. Сопровождающего рядом нет. Значит самоволь- щик перед ним. Злостный и наглый.
- Что, Карелкин, - спрашивает Шавов, - попался?
Слава молчит. Да и как говорить? Мороженное поперёк горла встало. Не ожидал он на собственного взводного напороться. Посмотрел на него Шавов. Что с него взять? Не сдавать же в комендатуру. Свой всё-таки, хоть и безобразник.
- Бегом товарищ курсант в казарму, - приказывает Славе. - Доложишь ответственному по роте. А ответственный сегодня сам командир роты. Я лично прибуду и проверю, как вы указание выполнил.
Шавов даже решил прервать свой выходной день, дабы всем показать (а особенно командиру роты), что он всегда начеку. Пусть знают: ему что день, что ночь, что будний день, что выходной. Служба прежде всего. Он всегда так нам и говорил:
- Я двадцать четыре часа в сутки командир взвода! А на отдых мне и трёх часов хватит.
Пошёл Шавов на автобус. У Славы же не хватит наглости в одном автобусе с Шавовым ехать. Значит пешком пойдёт. Пока дойдёт, Шавов его уже в казарме с командиром роты поджидать будет. Красиво получится. Эффектно.
Слава, конечно, бешено соображает, как ему выкручиваться? Понятно, в любом случае, желательно раньше Шавова до казармы добраться. Соскрёб Слава последние кровные, и рванул на такси. Надо сказать по тем временам курсанты такси обычно не пользовались, к тому же автобус для них был бесплатно. Поэтому целый рубль за такси вывалить не каждому бы в ум пришло. Подъехал Слава к училищу, перемахнул через забор, прибежал в казарму. Пока добирался, кой чего сообразил.
Уговорил второго дневального показать, что Слава, мол, всё время стоял «на тумбочке» и никуда не отлучался. И что скоро у Славы законная смена с поста. Дневальный, конечно, поматюкался, но согласился. Выручить товарища – святое дело.
Прибывает в подразделение капитан Шавов с важным видом, а Слава уже «на тумбочке» честь ему отдаёт.
- Вы товарищ курсант как здесь? – удивляется Шавов.
- Да вот стою, товарищ капитан, - пожимает плечами Слава.
- Так вы ещё и дневальный? – снова удивляется Шавов.
- Так точно. Дневальный по роте курсант Карелкин, - представляется Слава.
- Вы как товарищ курсант вперёд меня успел? - опять удивляется Шавов.
Слава плечами пожимает, вроде не совсем понятно, кто куда успеть должен.
- Доложил? – снова спрашивает он Славу.
- Так командир роты здесь, - отвечает Слава, - если бы его не было, тогда доложил бы, а так докладывать Вам в присутствии старшего по должности не положено.
- Что? – не понял Шавов. – Я вас товарищ курсант спрашиваю: то, что я тебе приказывал, доложил?
Слава лоб наморщил, вроде вспоминает:
- Нет, - отвечает, - не помню я, чтобы Вы мне чего-нибудь приказывали.
- Как, - Шавов аж подпрыгнул, - ничего не приказывал? А на рынке я кому только что приказывал?
- Не могу знать, - докладывает Слава, - мне об этом ничего не известно.
- Что? - возмущается Шавов. – Вы что мне тут себе позволяшь? Я кого на рынке в самоволке поймал?
Слава опять плечами пожимает:
- Не могу знать.
- Вы как себе думаешь такое врать? – Шавов даже привстал на цыпочки, как лилипут перед писсуаром. – Вам кто здесь позволил комедию устраивать? Я вам что на рынке приказал?
- Какой рынок, - удивляется Слава, - если я два часа с тумбочки не слазил? Через пятнадцать минут у меня смена.
У Шавова дыхание от такой наглости перехватило. Он ногой топнул:
- Курсант должен есть. В смысле отвечать «есть». А больше он ничего не должен. В жмурки со мной играть! Доложить, как положено, кто на рынке был?
- Ничего не пойму, - удивляется Слава, - какой рынок?
Шавову бы успокоиться. С мыслями собраться. Но тумблер щелкнул и тормоза отключились:
- Да я вас не знаю, что сделаю?! Да я вас из училища без зачёта срока службы! Я вам на всю жизнь во сне сниться буду! Шавов вам не мальчик! Шавов разведшколу кончал. Вы мне прекратите. Это вам не у бабушки!
Слава перепугался, в грудь себя стучит:
- Если виноват, казните. Только в толк не могу взять про какой рынок Вы всё говорите?
- Дежурного по роте мне сюда! - кричит Шавов. - Где дежурный по роте?
- Так спит он, - докладывает Слава, - у него сон по распорядку. Шавов долго смотрит на часы, пытаясь, то ли сообразить, то ли успокоиться и снова кричит:

- Тогда где второй дневальный? Дневального сюда!
- Дневальный свободной смены на выход! – тоже громко кричит Слава.
Подходит второй дневальный и докладывает капитану, что он дневальный.
- Вы когда товарищ курсант на тумбочке и сколько? – кричит на него Шавов. – И не вздумай мне докладывать, я всё узнаю!
- А вот перед ним, - отвечает дневальный и показывает на Славу.
- Вы мне, что себе позволяешь, сколько раз повторять? – не успокаивается Шавов. – Вы мне точно и куда по времени, а не Ваньку валять!
- Ну вот, - показывает часы дневальный, - стало быть, два часа назад стоял. А теперь, значит, опять пора стоять.
- Вы, что из себя корчишь? Идиота из себя корчишь? – пугает его Шавов. – Вы кого покрываешь? Преступника покрываешь? Вместе у меня сейчас! Я вас обоих! Я эти глупости больше вас прошёл!
Но курсант курсанта никогда не выдаст. Хоть на куски его режь.
- Никого не покрываю, - отвечает, - если хотите с наряда снять, снимайте. Только ни в чём я не виноватый. Видит Шавов, толку нет.
- Дежурного сюда - кричит, - поднимайте дежурного по роте!
Дежурного подняли. Шавов на него теми же вопросами кричит. Но дежурный только плечами пожимает:
- Спал я. Ничего не видел. А так служба своим чередом идёт, нареканий до сих пор не было.
Накинулся Шавов на дежурного:
- Вы мне прекратить! Что себе позволять вздумал? Я же разберусь и накажу кого попало! И не посмотрю человек он или сержант!
Только стоит тот на своём:
- Спал. Ничего не знаю.
И злоба Шавова берёт, и обидно ему. Начал мимоидущих курсантов пытать, кого на тумбочке видели и когда. Только те в один голос: ничего не видели, ничего не помним.
Испортили Шавову настроение окончательно. Пошёл он к командиру роты майору Лебедеву. Нажаловался, в бессилии. Вышел командир роты. Те же вопросы курсантам позадавал, те же ответы получил. Посмотрел в потолок. Поворачивается к Шавову:
- Ты точно этого курсанта на рынке видел? – спрашивает.
Опешил Шавов. Потом закручинился. Даже отвечать не стал. Пошёл за своим рабочим столом сидеть. Просидел целый час. Злоба вышла, обида осталась. Выходит и снова к Карелкину:
- Карелкин, - просит, - ну сознайся, что это ты был.
- Прямо и не знаю, что и подумать, - пожимает плечами Карелкин. – Может Вы кого-нибудь другого на рынке видели? Такие случаи бывают. Форма у всех одинаковая, причёски тоже.
- Ну как же одинаковая, - стонет Шавов, - если я с тобой как сейчас разговаривал? Не мог же я с такого расстояния тебя перепутать.
- Ну Вы мне подробней расскажите, как меня встретили? - просит теперь Слава.
- Ну как, - разводит руками Шавов, - вот я иду, а вот ты навстречу.
- Ну? – подбадривает Карелкин.
- Ну, я у тебя спрашиваю: «В самоволке?»
- А я что ответил? – спрашивает Слава.
Шавов начинает вспоминать. Потом неуверенно говорит:
- А ты ничего не ответил.
- Странно, - говорит Слава, - как же я мог себе позволить ничего командиру взвода не ответить? Не понятно. Ну а Вы, что дальше?
- А я тебе говорю: «Следуй в казарму и доложи командиру роты».
- А я что? – снова направляет взводного Слава.
- Повернулся и пошёл, - отвечает тот.
- Ну а сказал то что?
Шавов снова долго вспоминает:
- Опять ничего не сказал.
- Да, - сочувствует Слава, - значит, Вы и голоса моего не слышали?
- Выходит не слышал, - задумчиво произносит Шавов, потом радостно вспоминает, - так у тебя же мороженное было.
- А, - как бы соображает Слава, - значит, у меня рот был забит мороженым, поэтому я молчал?
- Да нет, - снова задумчиво произносит Шавов, - не забит.
- Тогда не знаю, товарищ капитан, - разводит руками Слава. – Вот на втором курсе курсант есть. Говорят очень на меня похож. Да и не только он.
Шавов устало отходит. Снова час сидит за своим столом. Потом находит Карелкина и очень упавшим голосом просит:
- Карелкин, ну сознайся, что это ты был.
- Да я бы с радостью, - отвечает тот, - но я же на тумбочке стоял. Не мог в двух местах одновременно находиться.
Шавов уходит домой понурый и раскисший.
На следующий день Шавов не отходит от Карелкина:
- Как же это мог быть не ты, если я тебя вот так видел?
- Не знаю, товарищ капитан, я уже сам в уме всякие варианты перебрал.
- Ну и что надумал?
- Только одно может быть. Спутали Вы меня с кем-то.
- С кем же я тебя мог спутать?
- Вот это и нужно выяснить. Тогда всё на свои места встанет.
*
По окончании третьего курса перед самым отпуском Шавов снова находит Карелкина.
- Карелкин, дело прошлое. Сознайся, что это ты тогда на рынке был.
- А-а, Вы всё про тот случай, товарищ капитан? Так и не нашли этого самовольщика?
*
Когда прошёл выпуск из училища и Слава надел лейтенантские погоны, Шавов снова выловил его:
- Слава, скажи мне, наконец, ты это был или не ты? Слава понурил голову:
- Я Пётр Лазаревич. Извините меня.
- Фу-у, - Шавов даже присел на скамеечку, - хорошо, что ты сознался.
Я ведь всерьёз начал думать, что меня галлюцинации посетили.
Иванов
Учился с нами курсант Иван Иванов. Само по себе, конечно, необычно: Иван, да ещё Иванов. Был он отличный парень. Но рассказать хочется всё-таки не про него самого, а про его отца.
Отец его Александр Иванович Иванов, служил раньше в Ейском училище лётчиком-инструктором. И был Иванов старший человеком незаурядным и талантливым. Он мог разговаривать стихами, выдавать на раз целые поэмы, кроме того имел он талант художника, скульптора и архитектора. Много в училище о нём легенд осталось, хотя не все позволительно в печатном виде выкладывать.
Естественно, все его таланты не вмещались в повседневную будничность, поэтому он каждый день как-нибудь проявлял себя, хохмил, юморил, разыгрывал. Народ любил его послушать и всегда собирался вокруг него толпами. Но однажды угораздило Иванова попасть в госпиталь, где, естественно, его не могли знать.
Прожил Александр Иванович в госпитале дня два. Невмоготу ему стало от серой больничной жизни, и весёлое нутро его всячески требовало внесения в неё разнообразных изменений.
Тут выпало ему идти на клизму. Если кто не в курсе, что такое клизма, то зря. Поинтересуйтесь заранее. Мало ли с чем в жизни столкнуться придётся. А клизма, это когда через известное отверстие большое количество специального раствора в человека заливается, а затем оттуда же выливается.
Пошёл, значит, Иванов к назначенному времени в соответствующий кабинет, но не просто. Перед тем как войти набрал он полный рот воды. Однако виду не показал. Пожилая санитарка подсказала ему что снимать, куда ложиться, что для процедуры подставлять. Иванов молча кивнул, мол, ясно. Выполнил что сказано. И всё как положено, сделал. Произвела санитарка соответствующее соединение Иванова со шлангом, и начала подачу раствора установленным порядком.
Поначалу Иванов лежал спокойно, и никакого виду не подавал, а потом вдруг повернулся на санитарку выпученными глазами и стали у него глаза расширяться. Та поначалу не поняла. Спрашивает:
- Что?
Но Иванов молчит, только лицом показывает, что вроде ему сказать хочется, но не может он, потому, как раздувает его изнутри. Та смотрит, вроде всё нормально идёт, как обычно, но понимает – глаза у человека сейчас выпадут. И выпадут они получается по её вине, а причину установить не может. Перепугалась не на шутку, и уже испуганно криком спрашивает:
- Что?
Тут Иванов воду изо рта и начал выпускать, как будто он переполнился. Санитарка со страху поверила, что клизма больного насквозь прошла. Очумела по-настоящему. Ей бы воду перекрыть, а у неё руки ходуном и речь отнялась. Может уже представила, как прокурору в убийстве сознаваться будет?
Паника, одним словом. Нельзя всё-таки женщинам доверять машиной рулить и клизмы ставить. Завопила она страшно и в коридор. Клизму, кстати, так и не отключила.
Неизвестно, как уж Иванов с этой клизмой справился, и со всем остальным? «Остальное» - его тоже куда-то девать надо. Только про шутку эту начальник госпиталя сразу узнал. Ещё бы не узнать. Бабка прямым ходом к нему в преступлении сознаваться побёгла. Вызвал тот к себе Иванова, журил сурово, основательно. Пальцем грозил. Нехорошо, мол, над пожилой женщиной издеваться. Если ещё чего подобное, то сразу… так, мол, и знай!
Александр Иванович, конечно, покаялся. Исправиться обещал. Только от натуры никуда не денешься. Несовместимая у него натура со строгой больницей оказалась. А тут к вечеру врачи по домам разошлись. Одни больные кругом. Вроде, свободой повеяло.
Как назло, кто-то кабинет не запер. А на вешалке там халат белый и фонендоскоп самый настоящий. Не мог же Иванов мимо такого пройти. Нацепил он белый халат, шапочку, на шею фонендоскоп повесил, и в таком виде двинулся.
Зашёл в ближайшую палату, огляделся, потом строго так спрашивает:
- Кто здесь новенький?
Больные после сегодняшнего случая уже знали кто такой Иванов, поэтому заулыбались, предчувствуя нечто необычное, и всей палатой указали на солдата-первогодку:
- Вон этот.
Тот только поступил и про Иванова ещё ничего не знал.
- Я новенький, - подтвердил солдатик, и даже стойку смирно принял.
- Так, больной, на что жалуетесь? – спросил Иванов, оттягивая боль- ному веки и щупая пульс.
- Ухо у меня, - сказал солдатик и показал на ухо.
- Ухо – это хорошо, - уверенно сказал Иванов и пододвинул табуретку. – Вставай-ка на табуреточку.
- Так у меня ухо, - неуверенно напомнил больной, но на табуретку встал.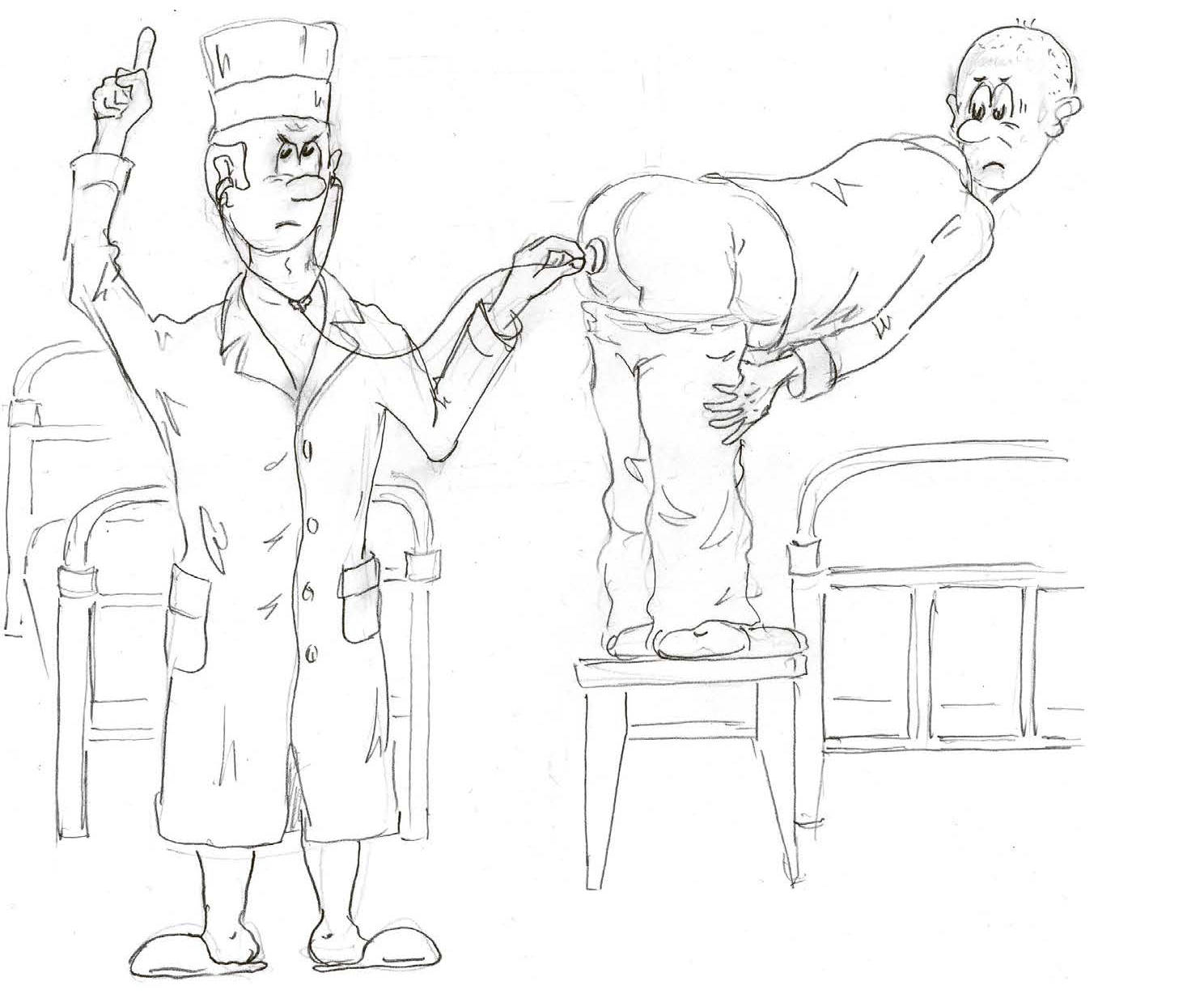
- Хорошо, - снова сказал Иванов, - поворачивайся. Приспусти штаны. Солдатик стушевался, но палата завозмущалась:
- Давай быстрей. Врач говорит, значит надо так!
Новенький, не зная больничных порядков, повернулся и приспустил штаны.
- Молодец, - снова твёрдым голосом произнёс Иванов, - теперь нагнись. Раздвинь ягодицы.
Солдатик неуверенно нагнулся и раздвинул ягодицы. Александр Иванович приставил к голой заднице фонендоскоп, и щёлкнул его по яйцу:
- Ну что, в ухе-то звенит?
Солдатик, изогнувшись, спрыгнул с табуретки на свою койку, и долго с недоумением смотрел на радостные лица соседей по палате. А лица хлопали себя по коленкам, друг друга по плечам и сползали на пол с коек в приступах раскатистого смеха. Но, в общем, всё закончилось хорошо, никто не обиделся и все остались довольны.
*
Известно, что последние годы жизни знаменитый борец Иван Поддубный провёл в городе Ейске. Здесь находится его музей, вдобавок центральный городской парк назван в его честь. К столетию со дня рождения великого силача Ейское авиационное училище решило преподнести музею Поддубного подарок – небольшую статую Ивана Поддубного, который как бы снимает халат перед началом схватки и ненароком обнажает свои железные мышцы.
Идея великолепная. И главное, в Ейском училище был человек, способный воплотить её в жизнь – майор Иванов. Александр Иванович долго отнекивался, ссылался на сложность исполнения и недостаточность собственного таланта, но, в конце концов, его уговорили и он согласился.
Иванова освободили от исполнения всех служебных обязанностей, и он в течение двух месяцев обязался выполнить сложную и ответственную работу. В виду того, что творческой мастерской у него не было, то ваял Иванов статую в собственном гараже. Он целиком отдался творческой работе. Поскольку никакие наряды и служебные дела его теперь не касались, и спал он теперь до скольких хотел, то этот отрезок времени больше напоминал отпуск, чем муки творчества.
Но не только у Александра Ивановича наступили золотые дни. Многие из его товарищей тоже тепло вспоминали данное времечко. По вечерам в гараже теперь собиралась целая толпа. Скульптор, отдыхая после напряжённого творческого дня, постоянно шутил и рассказывал весёлые истории. Да и вообще стало весело. Вот все туда и шли. Однако идти в гараж с пустыми руками считалось неприличным. Поэтому каждый прихватывал с собой бутылёк, который выставлялся для общего поль- зования. Понятно, что Иванову, на правах хозяина бутыльки носить не требовалось. Требовалось только угощаться. Поэтому он против гостей не возражал.
В общем, за два месяца в указанном гараже практически образовался своеобразный клуб, где лётчики-инструктора с удовольствием проводили вечернее время, а Иванов, естественно, получился его почётным председателем.
Когда два месяца закончились, и требуемая статуя была готова, случилось в гараже чрезмерное веселье. И уж так там народ разошёлся в сторону веселья, что ненароком статую известного борца опрокинули. Статуя со своего рабочего места вниз головой упала на бетонный гаражный пол. Никто не успел её ни подхватить, ни даже пикнуть. Статуя оказалась обречена. О спасении не могло идти речи. Она рассыпалась на такие мелкие кусочки, что склеить её не представлялось возможным.
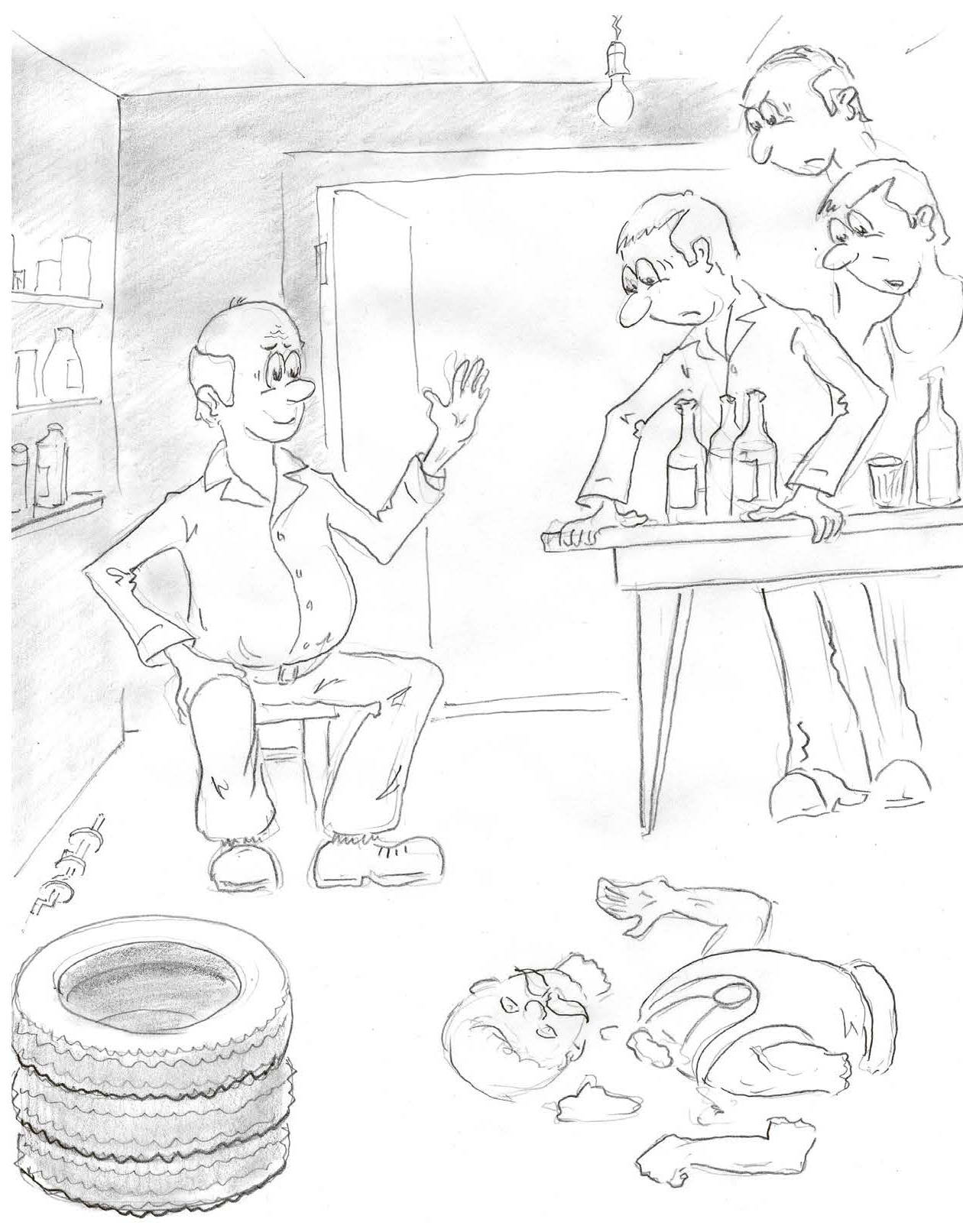
Народ обомлел и затих. Даже хмель у всех выскочил. Два месяца человек не покладая рук ваял сложнейшее произведение, которое уже завтра должно было быть торжественно выставлено на обозрение благодарных жителей города. И вот… Застыли все остолбенело, смотрят виновато. Как теперь горю помочь? Да и можно ли такое горе исправить? В пору за сердце хвататься.
Только Александр Иванович не растерялся:
- Не расстраивайтесь мужики, - говорит, - я завтра с утра еще такую же слеплю. Давай наливай лучше.
И действительно. Встал Иванов с утра пораньше, слепил точно такую же статую, а после обеда руководство её музею и вручило.
- Сырая ещё, - устало сказал Иванов, - только закончил. Там знаменитая статуя по сей день и стоит.
*
Не всегда, правда, со скульптурами всё гладко выходило. Но вины Иванова старшего в том не было. Случалось это от непонимания взрослых условностей его сыном Иваном, который как раз с нами учился.
Лепил как-то Александр Иванович скульптуры в просторном сарайчике у родственников. А Ваня тут же на природе бегал. Играл с чем под руку подвернётся. И попалась ему немецкая каска из папье-маше. Красивая каска была, совсем как настоящая. Откуда она взялась, теперь никто не помнит. Может её Иванов старший сам и соорудил?
Ходил Ваня с этой каской по двору. Любовался. Но каска это такая штука, которую непременно на голову одеть нужно. Отдельно от головы каска не до конца красиво смотрится.
Надел её Ваня себе на голову. Только опять не то. Не видит он теперь каски вообще. Какая же это красота, если её не видно? Полное разочарование. И вот тут, к счастью, заприметил Ваня в сарайчике отличную голову. Голова, конечно, не сама по себе была. Голова была с плечами до груди. Когда вырос, Ваня узнал, что это бюст называется.
Надел Иван каску на эту голову. До того она в пору пришлась. Прямо настоящий немецкий фашист получился. Смотрит он в упор на Ваню и оскал свой звериный показывает. Именно таких партизаны нещадно отстреливали, о чём в фильмах много свидетельств Ваня видел.
Естественно, как нормальному советскому пацану, Ване захотелось по фашистской роже стрельнуть. А была у тех родственников воздушка, т.е. пневматическая винтовка для свинцовых пулек, и валялась она без дела. А чего ружью без дела валяться когда фашисты кругом? Взял Ваня эту винтовку и давай фашиста проклятого расстреливать. И в каску ему, и в нос, и в глаз. Получай вражина безобразная.
Отвёл Ваня душу на целую пачку пулек. Хорошо фашисту врезал. Как в кино учили! Ну и успокоился. Другими делами занялся. Как-то всё забылось потихоньку. Пошла жизнь своим чередом. Только ближе к вечеру слышит Ваня, что отец его – Иванов старший ругается, на чём свет стоит. Потом вроде извиняется перед кем-то и опять ругается. Что за непонятности. Никогда его отец так не ругался. Всегда спокойный, выдержанный.
Не стал Ваня сразу бежать причины выяснять. Причины – они всегда разные бывают, но не всегда полезные. Выглянул потихоньку из кустов, чтобы в обстановке сориентироваться. Смотрит отец его перед бюстом в каске стоит и матерится, а рядом мужик какой-то.
Оказалось, это председатель колхоза, герой социалистического труда Мешков, заказал Александру Ивановичу собственный бюст слепить. Бесплатно тогда только дважды героям бюсты лепили. А просто герою соцтруда самому надо было о себе заботиться. Вот и решил Мешков собственным бюстом через Иванова обзавестись. Деньги заплатил. Позировал не единожды. А когда пришёл готовый бюст забирать, то оказалось, стоит герой соцтруда Мешков в пробитой немецкой каске с отколотым носом и выбитым глазом. В общем, не ожидал Мешков себя в таком политически неприглядном виде узреть.
Получилось, Ваня по недомыслию не только отцу насолил, но ещё и антисоветский поступок совершил. Долго потом Александру Ивановичу пришлось образовавшуюся неловкость сглаживать. А от Вани винтовку спрятали, и он больше её не видел.

Паша Дубов
Так в жизни получается, что люди, когда трезвые вытворять ничего особенного не желают. И даже когда их усиленно просят:
- А давай-ка, брат, мы с тобой сейчас отчебучим…
Они не только не соглашаются, а ещё и возмущаются, что к ним позволили обратиться с подобным. Однако, стоит потребить спиртного, как никого просить уже не нужно. Желание «отчибучить» начинает терзать массово. Хватает за горло и волочёт на поиски мест, где возможно предъявить общественности свою способность к отчибучиванию. И, к слову сказать, подобное повторяется с завидной регулярностью. Последствия хмельных отчибучиваний порой впечатляют своей нелогичностью, но вместе с тем масштабностью.
Расплата, следующая за этими последствиями в своей горечи не сравнима ни с редькой, ни с самым острым перцем. Выводы, которые делают виновники по осознании содеянного, убивают категоричностью и тотальностью. Виновные с размаху бросают себя на алтарь суровой, почти монашеской жизни. Принимают образцом своих помыслов исключительно добродетель. И навсегда прощаются со спиртным.
Сколько по времени может длиться неистовое раскаяние, в принципе осведомлены все. Об этом наверняка догадывались и виновники, и их жёны, и читатели. Последние отблески добродетели обычно меркли в первых отблесках граней предметов, посредством которых осуществлялось питиё, имеющих широкое распространение на территории Советского Союза.
Чего секретничать? В Брежневские времена пили много и самозабвенно. Это даже считалось как бы правилом хорошего тона. Обидно здесь другое. Поступки, сотворённые в пылу обильно вспрыснутого веселья, навечно остаются в памяти. Почему-то именно эти поступки память услужливо предъявляет нам при желании побеседовать о былом.
Во время встреч со старыми друзьями именно подобные нелепости попадают в центр обсуждений. Порой начинает казаться, что прошлое соткано вовсе из подобных казусов, а повседневная бытность напротив, выпадает из внимания. Ну работали мы чего-то. Ну сидели, корпели, уставали, жаловались и раздражались. Что теперь об этом вспоминать? А помнишь, как на ноябрьские…да с разгону…да вниз башкой…а глаза по половнику… Эх, вот жизнь была! Вот она молодость! Есть что вспомнить!
Не вина автора, что подобные случаи чаще других являются предметом повествования. Жизнь в основном шла своим чередом. Текла монотонно, обыденно, требуя упорства и настойчивости. Но оборачиваясь назад душа не принимает монотонности, не видит серости и повседневности. Душа жаждет яркости, резвости, пусть дажеглупой и непростительной. Но «ситуациями» дело-то не заканчивалось. В ситуации попадали все, и, как мы уже говорили, чаще после лобызаний с гранёными сосудами. А вот, что после ситуации – дело случая и смекалки. Кто как после выкручивался – предмет отдельного разговора и особого внимания.
*
Паша Дубов вернулся из очередного отпуска в срок. Добрался до казармы, спрятал чемодан. И как бы дальше следовало сдать отпускное удостоверение. Но! Удостоверение действовало до 24.00, на часах же было только 15.00. Выкинуть из жизни девять свободных часов способен был только неизлечимо больной курсант. У нас же не только неизлечимых, но и просто больных не водилось по определению.
Паша выдохнул остатки зарежимленного казарменного воздуха и отправился на городские улицы вдыхать воздух свободы, решив возвратить- ся в часть ровно в 24.00, ни минуты не упустив из положенного отпуска.
Тут же к радости Паша встретил своего друга Ваню Иванова, с которым не виделся целый отпуск и, естественно, соскучился неимоверно. Друзья крепко обнялись и шагнули на свободные улицы вместе.
Конечно, такое важное событие, как неожиданная встреча после отпуска, требовало немедленной торжественной процедуры со всеми полагающимися в таких случаях атрибутами.
Необходимо сообщить, что курсантам в то время разрешалось снимать военную форму только во время занятий по физической культуре и в бане. Остальное время снимать форму категорически запрещалось под страхом строгого наказания. Понятно, что произносить торжественные речи с гранёным предметом в руке не снимая формы, было чревато. В обязанности военных патрулей, насыщено рыскающих по округе, как раз входило собирать участников подобных торжеств и доставлять на гауптвахту. По причине описанных неудобств, каждый курсант имел нычку, именуемую проще хатой, где хранил гражданскую одежду и мог в случае необходимости переодеться.
Естественно, такой нычкой воспользовались и Паша с Ваней. Уже приобретя вид штатских граждан, они смело отправились в гастроном производить обычный для советского человека выбор из предложенных 3.62 и 4.12. В народном изображении наименованиями предложенного товара служили «Коленвал» и «Экстра». Подчёркивая торжественность момента, друзья взяли самое дорогое – «Экстру».
Чтобы не вызвать упрёков в зауженном представлении советского ассортимента, оговоримся. Существовала ещё 4.52. «Экстра» с отвинчивающейся головкой. Но в то время это была совершенная редкость. Говорят, поначалу данный напиток потреблял лишь Леонид Ильич Брежнев. Так, что в доступную продажу он поступил гораздо позже.
Распив в ближайшем сквере купленную бутылку, товарищи закусили её по общепринятым нормам плавленым сырком, и пошли за следующей. Правда, теперь уже не шиковали. Взяли за 3.62.
Что и сколько они употребили в последующем установить в точности невозможно, поскольку после второй учётность они вели слабо и восстановить её в последующем не смогли. Но, как бы там ни было, со временем у обоих прорвалось наружу естественное желание сотворить чегонибудь такое, чего раньше они никогда не совершали.
В этот момент, как по закону жанра и положено, им на глаза попалась машина «Скорой помощи» без водителя, но с открытой дверкой. Оба сразу, не сговариваясь, они узрели в открытой дверце приглашение покататься на «Скорой помощи». Ведь раньше им никогда не приходилось сидеть за рулём «Скорой помощи» и неизвестно придётся ли когда-нибудь?
Не глядя на открытую дверцу, ключа в замке зажигания почему-то не оказалось. Друзья немного расстроились, но понимая, что в жизни иногда приходится сталкиваться с трудностями, начали заводить машину без ключа. Поскольку заводить машину без ключа никто из них не умел, они просто разворочали подрульное пространство в поисках необходимых технических решений.
Вот тут некстати из ворот стоящего рядом дома и показалась толпа, имеющая свои виды на данный автомобиль. Очевидно, родственники несли некого мужчину на носилках, а врач и водитель шли рядом. Им настолько не понравилась задумка наших «отдыхающих», что даже больной вскочил со своих носилок и ринулся к водительской кабине, выказывая чрезмерно здоровое состояние тела.
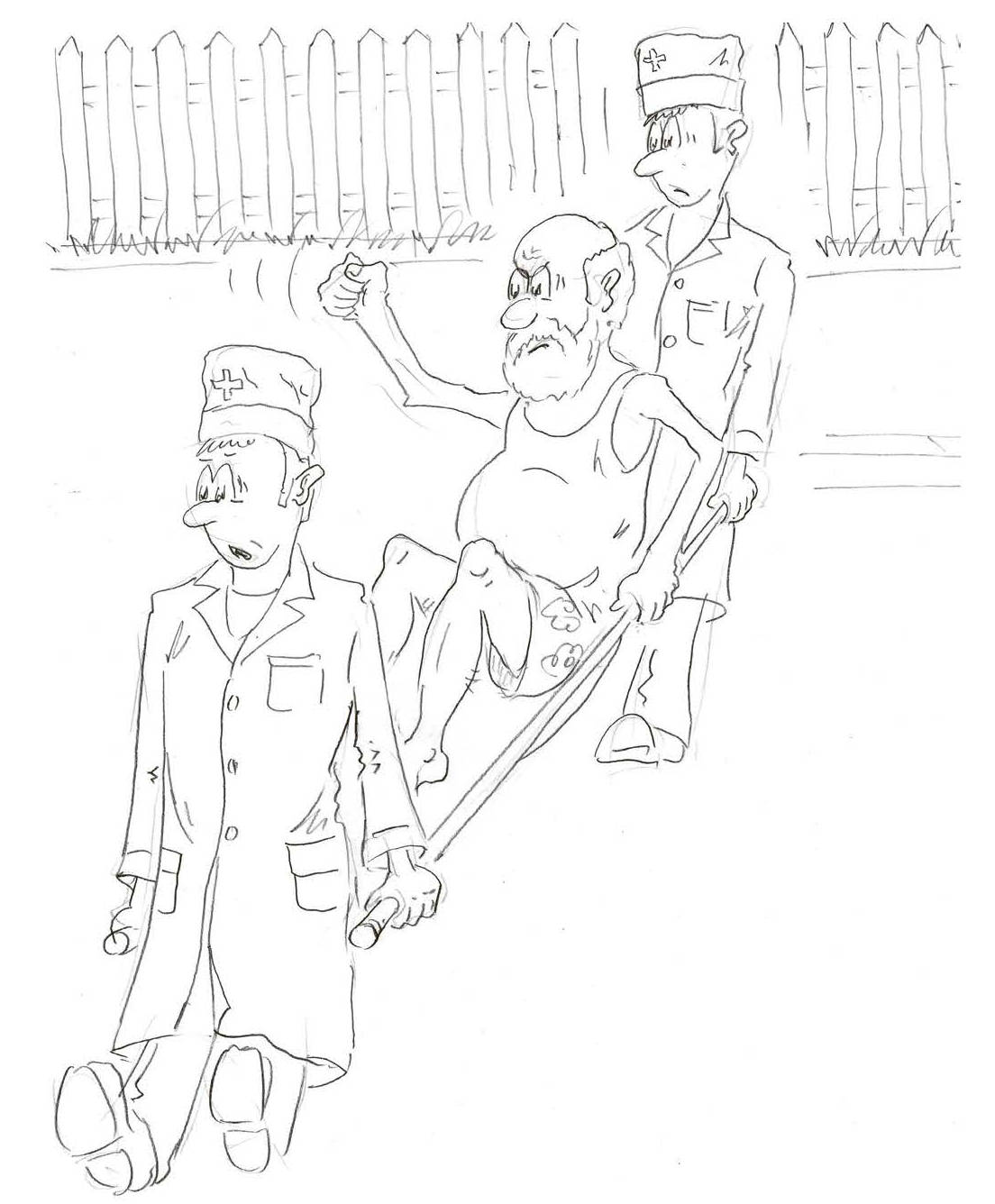
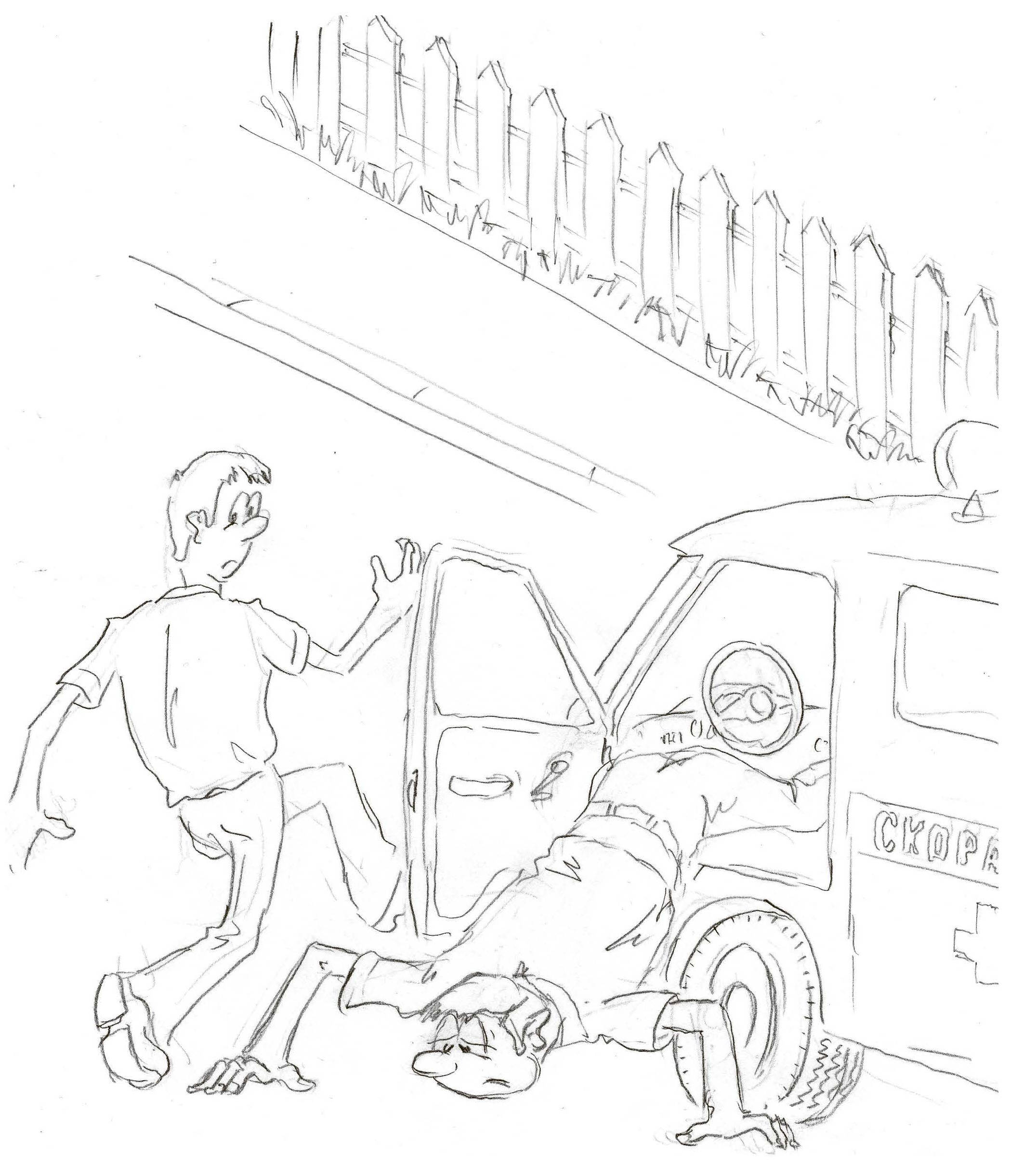
Вовремя распознав опасность, наши друзья решили в открытую схватку не вступать, а покинуть поле боя, используя приёмы ускоренного передвижения. Но, если Ваня, выскочив из кабины, успешно применил на практике навыки физической подготовки, то Паша, учитывая количество праздничной влаги, посетившей за день его гортань, не смог из кабины даже самостоятельно выпасть. Пашу, принимая во внимание его приверженность к недвижимости, не стали подвергать принудительному извлечению с пассажирского места, а прямо на нём доставили в ближай- шее отделение милиции.
Ваня, добежав до казармы, в двух словах довёл до нас подробности случившегося. Выговорить больше этих двух слов у него по естественным причинам не получалось, но используя художественное мычание и азбуку глухонемых он всё же довольно сносно обрисовал ситуацию.
Ряд товарищей тут же побежали искать отделение милиции, где мог находиться Павел и даже нашли его, но никакой помощи оказать им не удалось. Обнаружив в кармане Паши военный билет и отпускное удостоверение, милиционеры уже передали его в военную комендатуру, оформив соответствующую документацию. Теперь помочь Паше уже не мог никто и ничто.
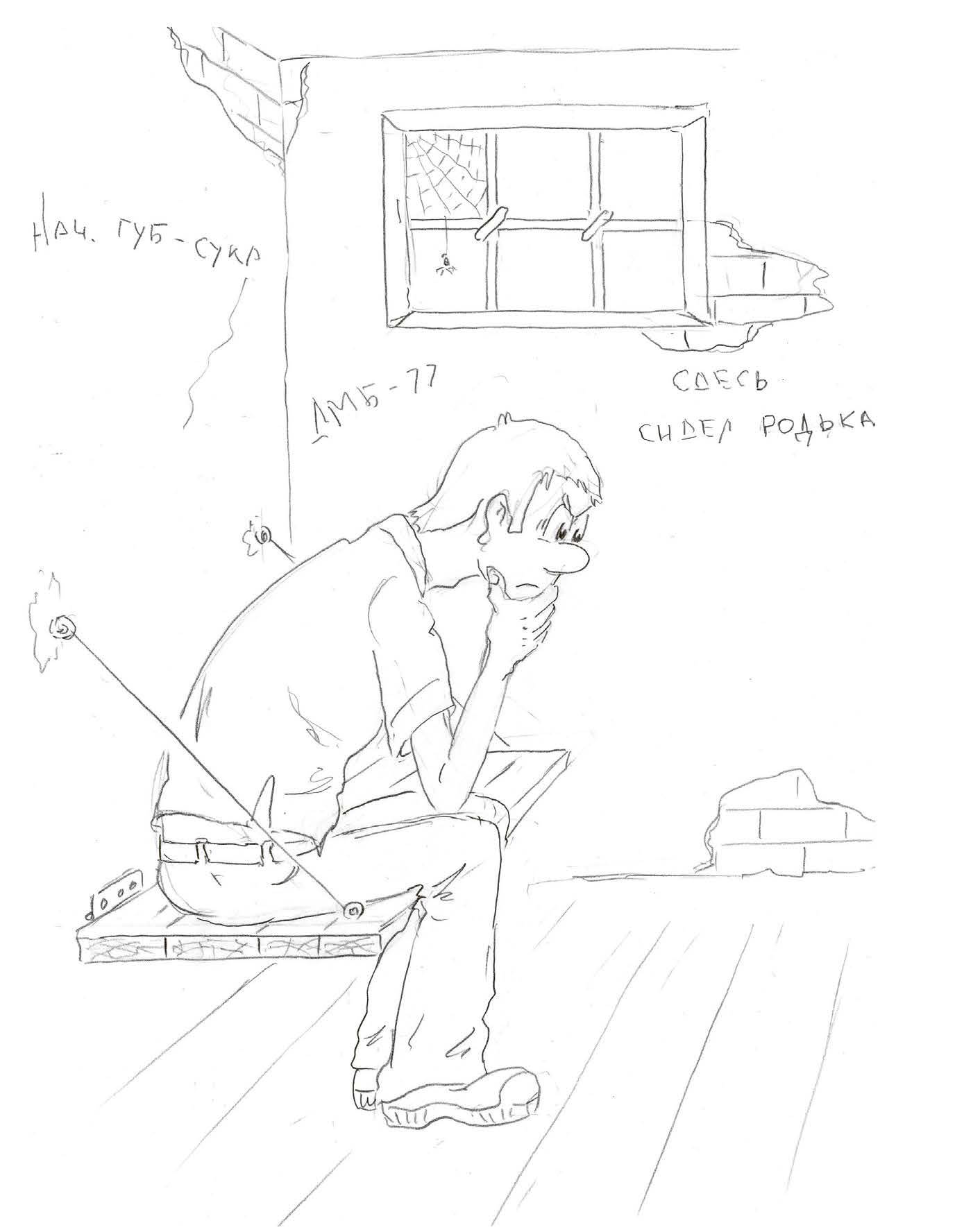
На утреннем построении командир полка поздравил нас с прибытием из очередного отпуска и сообщил о происшествии, случившемся накануне. Он в точности обрисовал ситуацию, которая произошла с Пашей. К тому же продекламировал на память несколько выдержек из свидетель- ских показаний, приложенных к милицейскому протоколу. В завершение командир довёл до нас, что курсант Дубов будет отчислен из училища по самой прескверной статье без зачёта срока службы в Советской армии. В общем-то это было лишнее. Мы и сами прекрасно представляли себе последствия Пашиной выходки. Надо сказать, это не самое плохое, что могло ожидать Пашу. За такие вещи вполне можно было угодить в дисциплинарный батальон или отхватить тюремный срок. Мы ходили понурые, потому что терять товарищей всегда трудно, а Ваню Иванова колотило в лихорадке. Если бы вдруг стало известно, что он находился рядом с Пашей, его ждала бы точно такая же участь.
Наверное, эта история заканчивалась бы в этом месте не иди речь о курсанте Ейского лётного училища Паше Дубове. Жизнь приучила нас не теряться ни в какой ситуации, и биться до конца, не опуская крыльев.
Буквально на следующее утро командир полка перед всем личным составом попросил у Паши прощения за нанесённое ему оскорбление и отменил предыдущие наказания и решения. Паша встал в общий строй к превеликой нашей радости с гордо поднятой головой и уверенным выражением лица. В знак поздравления мы пихали Пашку локтями, но лишних вопросов не задавали, понимая, что правда должна быть похоронена на долгие годы иначе последствия окажутся катастрофическими.
Очнувшись на гауптвахте Паша действительно по началу чувствовал себя раскисшим. Кроме мучительной головной боли и животного страха, свойственного любому человеку в такой ситуации, никакие другие ощущения его не посещали. Холодный чёрный пол. Серые шершавые стены. Другие личности от одного только прикосновения к холодной решётке впадали в истерику. Но больше всего добивала неизвестность. Паша, в довершение к остальным неприятностям, весьма плохо помнил окончание вчерашнего дня.
Конечно, ему хотелось поплакать навзрыд и повиниться за свои злодеяния. Броситься кому-нибудь на грудь, сказать, что он так больше не будет и попросить прощения. Но усилием воли Паша подавил панику. Твёрдой рукой взял за шкирку напуганную душу и хорошенько встряхнул её. После чего приказал мозгам работать. Во всяком случае, ему пока ничего не предъявили и ни в чём не обвинили.
В конце концов терять уже было нечего. Паша приготовился к бою. Когда пришли с требованием писать объяснительную, Паша долго ломал комедию, выуживая официальную версию его задержания. Узнав достаточно, он наотрез отказался что-либо писать или подписывать, выиграв себе таким образом время для обдумывания.
Чувствуя себя крайне муторно и не имея юридической подготовки, Паша, тем не менее, выстроил собственную версию происшедшего и сумел убедить в ней остальных. Поскольку Ваня сбежал, то никто не мог утверждать, что это был Пашин знакомый, а раз так, то вполне естественно, что это и был настоящий угонщик «Скорой помощи».
В последующем Паша написал в объяснительной, что он просто прогуливался по городу, как какой-то водитель «Скорой помощи» попросил помочь её завести. При этом водитель утверждал, что в салоне автомобиля находится крайне больной человек и промедление неминуемо приведёт его к гибели. Паша, как честный гражданин, тут же откликнулся на зов страждущего и кинулся помогать заводить означенную «Скорую помощь». В это время к кабине подбежали неизвестные люди и самым хамским образом схватили Пашу. Человек же представившийся водителем внезапно скрылся при помощи бега.
Естественно, Паша, возмущённый поведением незнакомых людей, какие-либо объяснения сразу давать отказался, поскольку посчитал для себя это унизительным. Таким образом, вместо того, чтобы выразить благодарность честному человеку, готовому придти на помощь по первому зову и пропечатать его в газете, он ещё должен давать унизительные объяснения по поводу угона «Скорой помощи». Сами подумайте, на кой чёрт курсанту лётного училища сдалась долбанная «Скорая помощь»?
А как некрасиво выглядят обвинения в Пашин адрес, что он, якобы, находился в состоянии алкогольного опьянения? Ведь с Паши даже не сняли экспертизы. А объяснения типа: Паша был настолько пьян, что экспертизу провести было невозможно прозвучали неубедительно. Если на самом деле пьян, то пусть ходит по белой линии или делает что там положено. Проводить нужно экспертизы! Не лениться!
Вот как заканчивались некрасивые, но судьбоносные истории, если дело касалось курсантов Ейского лётного училища!

Сколько в году новых годов?
Бытует, конечно, обывательское мнение, что Новых годов в году всего два: новый и старый. Только это в корне не правильно. Потому как Новый год с 31-го на 1-е – это уже не Новый год, а всего лишь подведение итогов предыдущих Новых годов.
Новый год завсегда начинал праздноваться задолго до 31 декабря. Начинался он с детских Новых годов. Примерно за неделю до 31-го во всех детсадах и школах устраивались праздничные утренники. Родители шили своим отпрыскам всевозможные новогодние костюмы, и приводили их в эти самые заведения. И было там вроде всё по правде: и ёлка, и дед Мороз, и подарки, за исключением сроков. Поскольку происходило это за неделю до самого Нового года. На более поздний срок празднество переноситься не могло, так как у родителей последующее время было расписано.
Выполнив родительский долг и отделавшись от детей, родители занимались устроением собственного Нового года на предприятиях, учреждениях и тех же учебных заведениях. К проведению таких мероприятий заготавливались тазики оливье, селёдки «под шубой», по блату доставались апельсины, шампанское, конфеты и самое дефицитное – копчёная колбаса.
Этот Новый год проводился в кругу сослуживцев. В качестве исключения на нём иногда позволялось присутствовать жене директора. Остальным же категорически запрещалось приводить своих супругов, что вносило в празднование элемент лёгкого флирта и исключало мелкие неприятности типа: «Тебе уже хватит! Пошли домой!»
Сейчас подобные празднования тоже присутствуют в жизни и называются «корпоратив», но зачастую проходят в ресторанах, чего в советское время и в голову никому не могло придти. В советское время всё проходило непременно в «родных стенах».
По времени такой советский корпоратив подгадывался накануне последнего рабочего дня. Этот последний день всё равно работать уже никто не был настроен, а оставшиеся после корпоратива деликатесы создавали атмосферу усталого изобилия. Домой остатки не забирались, так как это считалось неприличным, но и выбрасывать их на помойку тоже никто не собирался.
Следующий день после корпоратива начинался как бы с доедания, плавно переходящего в допивание. Главной темой разговоров становилось обсуждение вчерашнего праздника. Члены рабочего коллектива восторженно напоминали друг другу, кто вчера больше вытворил. Особым спросом пользовались разговоры на тему «кто с кем танцевал». На второй день съедалось и выпивалось гораздо больше, чем в первый, но обходилось уже без танцев и флирта. Второй день в череде Новых годов считался скорее «праздником живота». Его ожидали с таким же нетерпением, поскольку знали, что он не может не наступить.
Так же в соответствии с законами вращения колеса времени, именно в этот «Новый год» слетали покрывала тайны и происходили самые волшебные чудеса. Неуживчивые стервы вдруг принимались плакать и жаловаться, что их никто не любит, очкастые запуганные тихони ни с того, ни с сего заодно с колбасой начинали резать правду-матку в глаза, а завхоз невзначай признавался откуда взял деньги на новые «Жигули».
Наконец «самый последний» Новый год отмечался в кругу семьи возле домашней ёлки и ставил официальную точку в праздновании новых Новых годов («старые» Новые года – тема отдельная).
Будучи курсантами четвёртого курса, мы, тем не менее, подпали под статус школьников и дошкольников. Торжественный вечер, посвящённый Новому году, начальство нам провело задолго до 31-го декабря.
На этот торжественный вечер в одном из таганрогских техникумов (дело было в Таганроге) руководство позаимствовало музыкальную аппаратуру, поскольку аппаратура, которая имелась у нас, была недорогой и негромкой. Аппаратура же из техникума являлась полной противоположностью нашей. Была она заграничной. А по тем временам этим всё сказано.
Отыграли мы на шикарной аппаратуре великолепно. Девушки, посетившие наш скромный курс, остались весьма довольны. Праздник состоялся и удался.
Кто договаривался насчёт данной аппаратуры, и кто доставил её к нам неизвестно, но, как выяснилось, возвращать её хозяевам тоже требуется. Командир роты капитан Нажрутдинов принял соломоново решение: кто на ней играл, тот пусть и отвозит.
30 декабря, в 17.00 в канцелярии роты он построил состав нашего самодеятельного вокально-инструментального ансамбля и поставил задачу:
- Грузите инструменты на автобус. Отвозите в техникум. Сгружаете куда скажут. Убедитесь, что всё приняли, и претензий нет. После, на этом же автобусе прибываете в подразделение. Помните – ужин до семи. Опоздаете, ждать никто не будет.
Старшим с нами отправлялся замполит роты лейтенант Новохацкий. Новохацкий выпустился из нашего же училища три месяца назад по нелётному профилю и многие помнили его ещё курсантом, поэтому без посторонних мы обращались к нему просто Андрей.
Впятером мы погрузили аппаратуру в автобус. Новохацкий руководил погрузкой. Хотя это было лишнее. Мы понимали толк в аппаратуре больше его, поэтому обращались с ней нежно и осторожно. А уж такую великолепную аппаратуру мы грузили просто любовно.
Погрузив, выехали через КПП и доехали до здания техникума. Оказалось Новохацкий сам впервые здесь и куда идти толком не знает. В качестве помощников мы всей «джаз-бэнд» вывалили за ним и вошли в техникум. А чего в автобусе мёрзнуть? Да и на техникум изнутри поглазеть – какое-никакое развлечение.
Первый этаж оказался полностью пуст. Помещения и аудитории заперты на ключ, а вот на втором этаже слышались какие-то шевеления. Мы не спеша поднялись на второй этаж, по пути обсуждая плакаты, висевшие вдоль лестницы, и пытаясь отыскать кого-нибудь, чтобы сдать аппаратуру.
Непонятные звуки доносились из-за двери с красивой надписью «Актовый зал». Новохацкий обрадовался:
- В крайнем случае сюда всё и свалим.
Мы открыли дверь и вошли в актовый зал. «Вошли» слово в данном случае не совсем правильное. Точнее будет сказать, что мы не «вошли», а «попали». Мы попали на празднование Нового года трудовым коллективом данного техникума.
В актовом зале отсутствовали кресла, а вместо них через весь зал тянулся длиннючий стол, заставленный салатами оливье, селёдкой «под шубой», апельсинами и копчёной колбасой. Шампанское, надо понимать, уже закончилось, потому что на столе красовалось множество бутылок «Экстры», «Посольской» и «Московской».
Присутствующий коллектив состоял из сорока учительниц и трёх преподавателей: физрука, трудовика и завуча, который по совместительству являлся секретарём партийного бюро. На краю сцены актового зала одиноко стояла старенькая радиола типа «Комбайн» с широкими магнитофонными бабинами. Под песню Антонова «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную» учительницы танцевали друг с другом. Завуч с физруком участвовали в танце как могли. Трудовик уже ни на что не годился. В общем картина была мирная и даже скучная.
Вшестером мы вошли в зал и неожиданно для себя застыли. Необходимо отметить, что в нашем вокальном коллективе средний рост составлял метр восемьдесят и выше. Новохацкий был ещё выше. Наверное, это сыграло какую-то роль, поскольку учительницы бросив танцевать, посмотрели на нас странным взглядом. Обычно так смотрят на сюрприз. Потом медленно двинулись в нашу сторону. Когда они подошли, вообще появилось предчувствие, что мы отсюда просто так не уйдём.
Учительницы были не все молодые, многим, наверное, было уже за тридцать, но когда Андрей открыл рот, чувствовалось, что он смущается:
- Мы аппаратуру вашу…ну в общем уже всё…назад, короче…куда поставить, а то автобус…
Учительницы посмотрели на нас ещё немножко, и похоже, зрелище им понравилось. Потом они довольно бесцеремонно потребовали:
- Какой автобус? Какой поставить? А ну расставляйте её на сцене! Мы, улыбаясь друг другу (очевидно довольно глупо) и пожимая пле-
чами, принялись таскать аппаратуру на сцену. Завуч, почему-то страшно радостный, кричал:
- Давайте, ребята, подключайте быстрее!
Мы глянули на Андрея – чего он скажет? Но того уже усадили за стол и пять учительниц одновременно наливали ему с разных сторон. Поэтому он ничего не говорил, а только глотал. Ну подключать, так подключать. А чего такую аппаратуру подключать? Всё на штекерах с заграничными шнурами. Три минуты и готово.

- Давай, ребята! Давай начинай! – истошно и почему-то радостно кричал завуч.
Завуч вёл себя так, будто с него только сняли два мешка картошки, и он теперь упивается свободой. Мы попробовали пару аккордов. Да, аппаратура действительно предназначалась именно для этого зала. Вдобавок отсутствовали мягкие кресла. Кресла, что называется «гасят звук», и «забирают» мощность усилителей. Здесь же условия получились идеальные. Играть в таких условиях нам удавалось крайне редко, поэтому, чего уж скрывать, нам самим захотелось «опробовать зал».

Первая песня очень важна. Это – знакомство зала с группой, визитная карточка. От того, как пройдёт первая песня порой зависит успех всего дальнейшего выступления, поэтому первая песня всегда должна быть одной из лучших в репертуаре. У каждого творческого коллектива в запасе обязательно имеется несколько «коронок», т.е. песен, которые получаются лучше остальных. Была такая «коронка» и у нас. Ударив пострунам и ещё раз подивившись чистоте звука, начали: «Мы слова найдём такие нежные, что завидовать начнут красавицы, тем единственным на свете женщинам, которых любим мы…»
Никто не танцевал, не пил, не ел. Учительницы слушали так, будто к ним приехал сам Антонов. Честно, мы тоже не ожидали, что так хорошо получится. Когда закончили, мгновенье стояла тишина, после которой всё буквально взорвал ось. Сорок учительниц хлопали, топали и верещали так, что не верилось, будто они на самом деле учительницы.
Завуч к удивлению стал ещё радостнее, хотя казалось дальше уже некуда.
- Ещё ребята! Давай ещё! – во весь голос кричал он, размахивая куском колбасы.
Глаза учительниц начали издавать свет. Может нескромно, но они в полном смысле с обожанием смотрели на внезапно «свалившихся» артистов. К слову, у нас никогда раньше не было столь абсолютного контакта с залом и столь благодарных слушателей. Конечно, теперь уходить нам и самим уже не хотелось. Мы с энтузиазмом дали небольшой, но вполне полноценный концерт. Учительницы сидели неимоверно радостные, но почему-то медленно потирали руки.
Понимая, что ситуация выходит из-под контроля, и пользуясь тем, что внимание к нему временно ослабло, Новохацкий встал и произнёс прощальную речь.
- Спасибо за тёплый приём, - сказал он, - но ребятам ещё на ужин нужно успеть. Так что всего доброго. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с вашим учебным заведением!
- Чего?! – педагогический состав возмутился настолько, что, похоже, вышел из себя. – А эти горы оливье куда девать прикажите? Ну-ка, девочки, разобрали мальчиков!
Нас стянули со сцены и рассадили по разным концам огромного стола. После принялись кому впятером, кому ввосьмером запихивать в рот оливье, селёдку «под шубой» и заливать туда же водку. Новохацкий, понимая, что вмешиваться в процесс опасно, ничего не говорил, но очень просил нас взглядом: «Ребята, не переборщите». Мы так же глазами отвечали ему: «Сознательность проявляем, сопротивляемся как можем». Однако демонстративно закрывать рот не рисковали.
Подперев каждого слева, справа и придавив сверху грудями, учительницы принялись обсуждать наше дальнейшее использование.
- Ух, какие красавцы, - учительницы бесцеремонно ощупывали наши руки, плечи, - хватит девки их слушать. Давайте их танцевать будем. Где там радиола?
Завуч моментально включил местную радиолу, и нас по очереди начали танцевать, не спрашивая согласия. Когда каждая протанцевала по разу, у них снова возникло желание послушать песен. Нас снова загнали на сцену и начали слушать, с удовольствием развалившись на стульях.
Андрей пробовал переговорить с завучем, но тот только махал руками:
- Ребята, если вы сейчас уйдёте, это будет полный амбец. У меня потом забастовка начнётся. Я вам писем, грамот сколько хотите пришлю. Позвоню, куда скажете. Не вздумайте уйти!
Нас с определённой периодичностью стаскивали со сцены, кормили, поили, танцевали и снова отправляли на сцену. Завуч уверял, что такими довольными учительницы не были ни на одном празднике.
К двенадцати ночи Андрею всё-таки удалось настоять на нашем отбытии. Обцеловав со всех сторон, нас проводили до автобуса и с огромной неохотой, наконец, отпустили.
*
Капитан Нажрутдинов сидел в своей канцелярии. Он так и не попал домой, потому что целая группа его курсантов во главе с его замполитом, да ещё в придачу с автобусом, бесследно исчезла. Техникум на звонки не отвечал. Правда, сотрудник милиции, дежуривший по городу сообщил, что в городе никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Это успокаивало.
Нажрутдинов решил дождаться утра и в случае, если никто не объ- явится только тогда объявлять розыск. Когда в час ночи наш автобус подъехал к казарме ротный был злой, как чёрт за наше отсутствие и одновременно радостный за наше прибытие.
Новохацкий построил нас у него в канцелярии и доложил:
- Прибыли. Без замечаний. Аппаратуру отвезли.
- Вы где до часу ночи шлялись? – шипяще спрашивает командир роты.
- Пришлось концерт дать, - выпаливает заранее заготовленную фразу Новохацкий.
- Какой к чёрту концерт?! Час ночи! – снова шипит ротный.
- Для трудового коллектива техникума, в котором аппаратуру брали,
- снова чётко докладывает замполит.
- Вам, что было приказано? – скорее напоминает, чем спрашивает командир.
- Так по просьбе трудящихся, - не унимается Новохацкий, - завтра замполиту полка звонить будут насчёт благодарности, и грамоту пришлют.
Сидит грозный капитан, думает. Что теперь с этими курсантами делать? Явно водки прилично хапнули. Но стоят смирно, не шелохнутся. Конечно, такие после центрифуги с лопингом не шатаются. Чего же им после литры выпитой качаться? Сейчас спроси, так в один голос гаркнут, что не пили. На экспертизу вести – последнее дело. Тем более, что курсанты не в самоволке были. Чин чином. На служебном автобусе возили. Да ещё под командой офицера, которого сам назначил.
Обидно, что до часу ночи из-за них в канцелярии просидеть пришлось. Но служба на то и служба. Сюрпризы каждый день. По-другому всё равно не будет.
Думал, думал капитан, а выход один. Придётся не заметить, что эти наглые морды к тому же ещё и пьяные.
- Так значит по просьбе трудящихся? – спрашивает он.
- Так точно, - рапортует Новохацкий.
- Трудящиеся довольны остались? – снова спрашивает ротный.
- Так точно, - снова рапортует замполит, - и грамоту с благодарностью пришлют.
- Это хорошо, - констатирует Нажрутдинов. – Молодцы. Связь армии с народом крепить нужно. Если б вы ещё до ужина управились…
- Личный состав накормлен, - докладывает Андрей.
- Да я от сюда вижу, что вы не голодные, - раздражение всё-таки прорывается у ротного. – Марш спать! Быстро с глаз моих долой! Чтобы через минуту все кверху штуцером лежали! А с тобой Новохацкий я завтра поговорю!

Герои
В былое время люди, получившие звание «Герой Советского Союза», весьма уважались в народе. А само это звание считалось таким высоким, что выше его ничего не было. Сейчас, конечно, десятой доли того уважения не осталось, и уже не всем понятно о чём речь. А ведь было это уважение. Ой, как было.
Как-то нас молодых лейтенантов загнали на торжественное мероприятие, которое продолжалось два дня. А в гостинице рядом с нашим номером поселили двух Героев Советского Союза – участников Великой Отечественной войны. Были они ещё вполне не старые, пожалуй, шестидесяти ещё им не стукнуло. И были они вполне крепкие и весёлые.
После мероприятий первого дня и сытного ужина решили они у себя в номере продолжить торжественное мероприятие. Достали бутылку коньяка и позвали нас – двух молодых лейтенантов. К тому же позвали они свою старую знакомую. Она не была героем, но вся грудь у неё была в орденах и медалях.
Они весело вспоминали своё прошлое. Нас спрашивали про службу. Были нашими ответами очень довольны и говорили, что именно такую смену себе они и представляли.
Поскольку до того они были уже торжественно поужинавши, то ближе к полуночи потянуло их на фронтовые песни, которые мы, кстати, знали полным списком, и с удовольствием подпевали. Надо сказать, среди ночи это слушалось весьма громко.
А в самую полночь в дверь их номера сурово постучали. Таким стуком обычно сообщают, что лучше открыть, а то хуже будет. Когда мы распахнули дверь (она, кстати, была не заперта), за ней оказались: дежурная по этажу, сержант милиции и сама администратор гостиницы. Судя по их виду, они пришли нас брать. И случись это в наше время, шансов отвертеться у нас бы не было никаких.
Перед тем как войти администратор грозно глянула вглубь номера. Очевидно, такой взгляд заставлял неметь уже не одну сотню клиентов гостиницы, но тут случилось чудесное превращение, на которое мы смотрели с превеликим удовольствием.
Узрев в номере две Золотых Звезды Героя и женщину всю в орденах, администратор поменялась в лице вплоть до улыбки. Выдвинутая голова пошла назад и заняла нормальное положение. Оттопыренные локти втянулись в туловище. Администратор чуть не строевым подошла к Героям и представилась. Потом повернулась к дежурной по этажу, и протянула ей связку ключей:
- Этот от моего кабинета, знаешь. А этот от сейфа. Возьмёшь бутылку коньяка и бегом сюда.
Потом ткнула пальцем сержанту милиции:
- Иди народ успокой. Объясни ситуацию. Пусть проявляют сознатель- ность, когда заслуженные люди отдыхают.
После обратилась уже к Героям:

- А мы с Вами будем чуть-чуть потише. Она была очень умным администратором.
Хряпнув с нами коньяку и попев военных песен, она очень нежно развела всех по своим номерам, и уложила Героев. Сержант милиции вполне помогал, а коньяка до того, к слову сказать, урвал сколько смог.
Жильцы соседних номеров, узнав, что за стеной песни поют Герои Советского Союза больше не проявились ни единым словом. Они смиренно дождались когда Герои закончат, и уснули, не испытывая чувства обиды или недовольства.
Уважение к званию Героя Советского Союза было. И было у всех.
*
А ещё в те времена военные учебные заведения зачастую посещали знаменитые люди – высокопоставленные партийные работники, а так же заслуженные деятели эстрады и кино. Посещая наше училище, они каждый раз выступали перед курсантами. Проводить беседы на патриотические темы тогда входило в их знаменитые обязанности. Понятно, что встречи с артистами эстрады и кино проходили намного интереснее, чем с ответственными партийными работниками.
Однажды к нам в маленький лётный гарнизон Зерноград приехал Павел Петрович Кадочников. Знаменитый киноартист, который сыграл роль лётчика Мересьева в фильме «Повесть о настоящем человеке». Кадочников рассказал множество интереснейших историй, но одну вспоминал с особой любовью.
Как раз во время съёмок его знаменитого фильма о лётчике Мересьеве, который продолжал летать после ампутации обеих ног, довелось ему ехать в поезде. Примерно в 1947 году. В купе кроме него находился режиссёр фильма Александр Столпер и ещё кто-то из дирекции фильма.
Поскольку четвёртое место у них пустовало, то, естественно, на одной из станций к ним подсел пассажир. Это был маленький, тщедушный человечек, примерно одного с ними возраста. Он был одет в сильно выцветшую солдатскую шинель без погон. За спиной у него висел солдатский вещмешок. На голове была потёртая солдатская пилотка без звёздочки.
Новый пассажир скромно сел на краешек вагонной полки возле двери и положил руки на колени. Посидев немного, он снял пилотку. Волосы его оказались светлыми и удивительно мягкими. Кадочников сказал, что его причёска очень напоминала пушок цыплёнка, и даже хотелось за этот пушок подержаться.
Знаменитый режиссёр со знаменитым артистом сидели и смотрели на солдата в обносках. В принципе в то время это было обычным явлением, но уж очень он не вписывался в компанию солидных людей. Разговор при нём как-то не клеился, хотя солдатик даже не смотрел в их сторону. Понятно, что такой пассажир лучше какой-нибудь старой бабки, которая начала бы рассовывать всюду бесчисленные узлы, а затем канючить нижнюю полку, но этот сильно деревенский мужичок, тоже не сулил приятного путешествия.
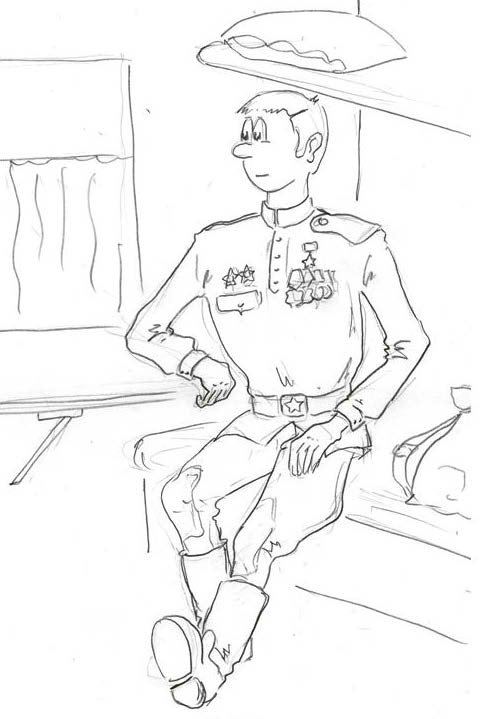
Солдатик продолжал сидеть в шинели, несмотря на тёплую погоду. Хотя изысканных манер от него никто не ждал, это всё же нервировало. Подождав немного, Столпер обратился к новому пассажиру, стараясь быть демократичным и не подчёркивать своего высокого положения:
- Ну, вы разделись бы, что ли. Не будете же вы ехать одетым всю дорогу.
Маленький человечек встал, безропотно снял с себя вещмешок, шинельку и аккуратно повесил её на крючок. Когда он повернулся и снова сел на краешек полки, со знаменитых киноработников враз слетел былой лоск, а на лицах появилась улыбка, которая бывает у мальчишек, когда их застали за воровством варенья.
На груди маленького человечка помимо многочисленных наград светилась Звезда «Героя Советского Союза». При этом он продолжал держаться так же скромно, как и до того. Теперь героя, не глядя на его протесты, пересадили к окошку. Стали говорить ему приятные слова, достали всё, что имелось из провизии, а проводника послали за чаем.
История, рассказанная этим на первый взгляд непримечательным человеком, поразила ехавших в купе не меньше чем само его появление. Оказалось, что это Васильев, один из 28-и воинов-панфиловцев, которые посмертно были награждены за сражение против танков под Волоколамском при обороне Москвы. После этого сражения Васильев был доставлен в госпиталь практически без признаков жизни. Никто не знает, каким чудом ему удалось выжить. Отлежав много месяцев в госпиталях, он дальше отправился на фронт и продолжал храбро воевать.
Только через полтора года после этого выяснилось, что ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А к тому времени уже каждый мальчишка знал подвиг 28-и панфиловцев, которые ценой своей жизни не дали немецким танкам пройти разъезд у Дубосеково. Все панфиловцы уже были награждены медалью «Золотая Звезда» посмертно, но Васильеву теперь требовалось вручать её лично.
Узнав о восставшем из мёртвых панфиловце, сам командующий фронтом приехал вручать Герою «Золотую Звезду». Во время награждения командующий очень волновался и вместо положенных торжественных фраз, не скрывая слёз произнёс:
- Да ты сам не знаешь, какой ты есть человек!
Режиссёр Столпер тут же записал эту фразу в блокнот, и в последующем она стала знаменитой. Он вставил её в фильм «Повесть о настоящем человеке».
Очень эта история Кадочникову нравилась. Собственно, понравилась она и остальным.
Орден
Любая проверка части вышестоящим командованием всегда начиналась с проведения строевого смотра. Авиационные части так же обязаны были придерживаться этого правила. В такие дни мы отправлялись на службу в сапогах. Сапоги у всех были новенькие, поскольку их выдавали каждые два года, а авиация, как известно, носила исключительно ботинки. Обычно лётчик за всю карьеру не успевал снашивать и двух пар сапог.
Голенища сапог, не глядя на редкое ношение, лётчики обязательно складывали в «гармошку». Ваять из голенища шестигранник нужно сразу по получении, пока сапоги новые. Если пройтись в них несколько раз, то внизу образуются складки, которые потом невозможно переделать в ровные симметричные загибы, и «гармошка» получится не «лётная», а «колхозная». Она тогда не будет радовать глаз, а наоборот, создавать впечатление неряшливости.
Сухопутные же офицеры всегда стремились к тому, чтобы голенища были абсолютно ровные – «трубами». Они даже укрепляли их изнутри, чтобы со временем не пропадала округлость. При этом «трубы» они начищали так тщательно, что те сверкали неестественным блеском. Говорят, чтобы добиться такого блеска, они использовали специальный состав, который втирали в кожу при помощи горячего утюга.
Если сухопутным офицерам доводилось участвовать в проверках лётных частей, они, глядя на нашу «гармошку», всегда морщились и хмыкали. Между собой обладателей «гармошки», они называли «колхозниками». Мы же сухопутчиков, за их любовь к круглым голенищам, пренебрежительно звали «сапогами».
Хотя, как ни прискорбно, бывали другие случаи, когда авиацию обзывали «колхозниками». Исторически сложилось так, что первыми авиаторами были офицеры от кавалерии. Даже название административной единицы «эскадрилья» произошло от слова «эскадрон». Командиры же помянутых подразделений именовались «комэск», что в кавалерии, что в авиации.
Очевидно, кавалерийский дух так и не выветрился за десятилетия существования авиации. Отношение лихих рубак к военной форме перекочевало в лётную среду, и там плотно застряло, как говяжья жила между коренных зубов.
С развитием инженерии подошло время объявиться лётчикам с авиационными техниками и на борту крейсеров. Первое построение на палубе авианосца весьма показательно в этом отношении. Адмирал, обходя стройные ряды моряков, приветствовал каждое подразделение отдельно.
- Здравствуйте, товарищи моряки! – громко здоровался он, держа у козырька прямую, как стрела ладонь.
- Здрай желай тва адмира! – гремели моряки.
И ответ их раскалывал воздух, как раскаты весеннего грома. Адмирал одобрительно кивал и переходил к следующему подразделению. Перед тем, как поздороваться он мельком оглядывал строй. Шитые фуражки, воротнички, манжеты, упругие стрелки, книзу клёш и кортики. Вороная чернота и блеск белизны, пересыпанные гроздьями золота, радовали глаз адмирала. Всё на своих местах, всё отглажено и отутюжено, подогнано с точностью до миллиметра.
Чего кривить душой – красивая форма у моряков. Любят они её и гордятся ей, хотя по чернозёму и суглинкам им лазить не приходится. Неоткуда особенно на корабле дёрну с песком взяться. Хотя, понятно, это не оправдание.
Дошёл адмирал до крайнего подразделения и рука у него невольно опустилась. Форма на людях вроде морская, только одета по-простецки. На вид вроде кители, а сидят как пиджаки. Всё свободненько – чтоб не давило, не натирало. Верхние пуговицы под галстуками расстёгнуты. Кто в фуражке, кто в пилотке. Форма вроде поглажена, но нет в ней положенного шика. Манжеты у кого чуть не полностью торчат, у кого вообще из рукава не выглядывают. Задние ряды руки в карманах, и лица при этом такие, будто не в строю стоят, а в очереди за пивом – и невмоготу им уже стоять.
- Это кто такие? – ужаснулся адмирал.
- Так это авиация, - отвечают ему, - соколы наши, которые с палубы взлетать будут.
- Колхозники это, - махнул рукой адмирал, и ушёл, даже не поздоровавшись.
Как ни крути, а в каждой системе свои ценности, и в каждом болоте свои кулики.
До середины семидесятых годов прошлого столетия авиация не знала гнёта красных погон. Авиация до этого времени вообще не считалась родом войск. По этой же причине легендарный ДОСААФ расшифровывался, как добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Где, как видно, авиация числилась отдельно и приравнивалась к флоту.
Но в семидесятых годах, как я уже упоминал, авиацию включили в состав Армии наравне с ВДВ и танковыми войсками. Командующие авиационных округов превратились в командующих авиацией округа. Впервые авиационные части, хотя осторожно, но настойчиво, начали посещать комиссии из состава офицеров сплошь с красными и чёрными погонами.
Во время проведения одной из подобных проверок на стартовом командном пункте аэродрома появился краснопогонный подполковник с общевойсковыми эмблемами в петлицах. Он был небольшого роста, с плотно посаженой головой на короткой шее, но великолепно пострижен, отутюжен и трубы его сапог таинственно блестели.
Он поднялся на самый верх СКП, откуда осуществлялось непосредственное руководство полётами. Стены данного помещения были сделаны из стекла, и оттуда открывался круговой обзор, но поскольку проверяющий явился ночью, то вокруг виднелись в основном огоньки.
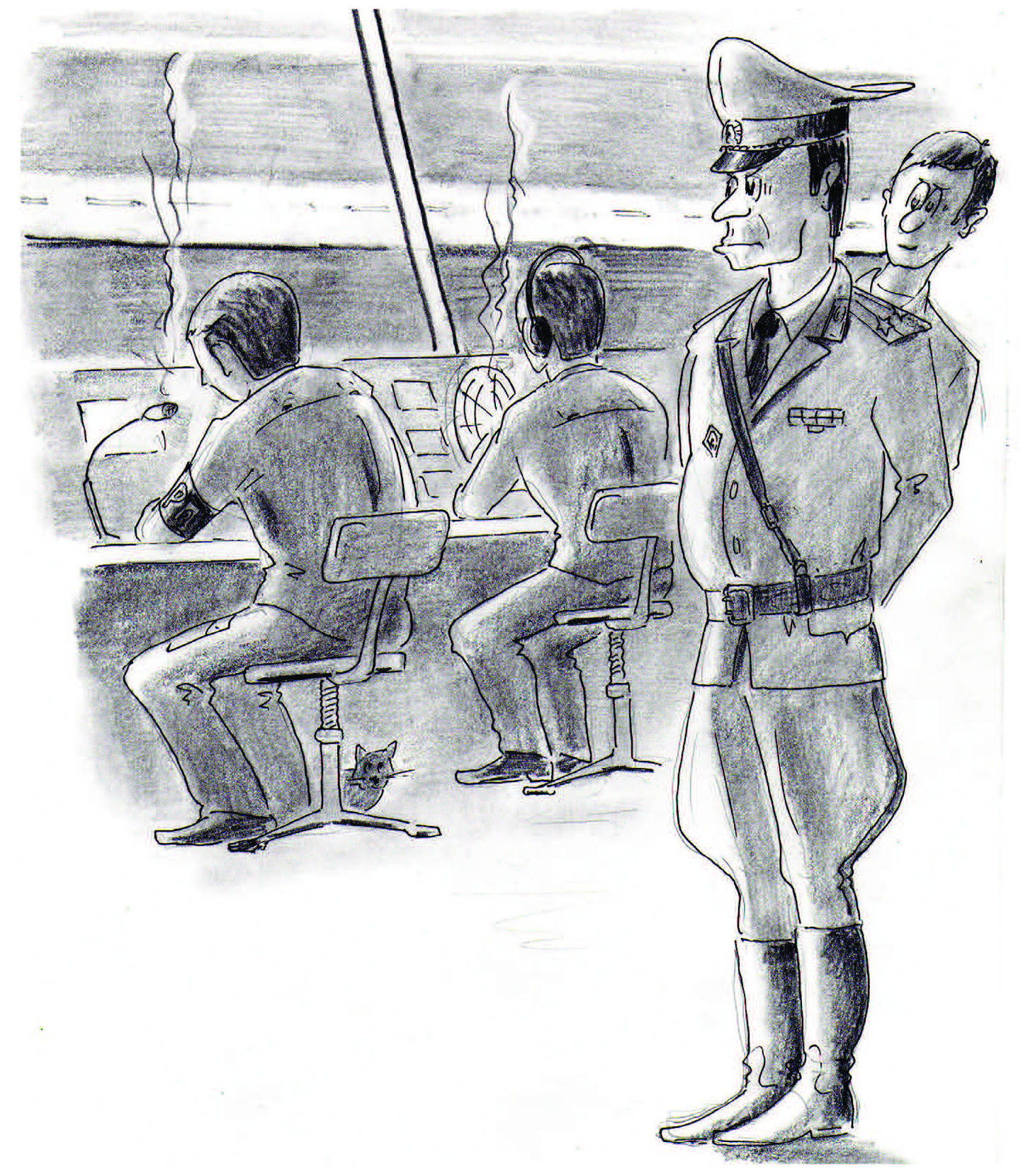
Спиной к нему, на небольшом возвышении сидел мужчина в серебристом комбинезоне и нещадно курил. Справа, тоже спиной, сидели двое. Один в фиолетовом, другой в синем комбинезонах. Те пялились в огромные экраны локаторов, но перед каждым также возвышалась гора свежих «бычков». В воздухе изредка проносились трещащие фразы, состоящие в основном из набора цифр, а те, не отрываясь от экранов, наклонялись к микрофонам и чего-то в них говорили.
Справа за столиком сидел мужчина интеллигентного вида в жёлтом комбинезоне. Он был единственным, кто не курил. Перед ним лежали большие листы с выкопировками, и он их внимательно рассматривал.
Подполковник остановился возле входа, демократично давая время присутствующим осознать, что пришёл проверяющий. Выждав достаточное время и убедившись, что никто ничего не осознал, подполковник спокойно, хотя настойчиво задал вопрос:
- Кто здесь старший?
Из-за столика справа поднялся «жёлтый комбинезон», но вместо чёткого, ясного доклада попросил:
- Потише, пожалуйста.
- Вы кто? – потише, но достаточно строго спросил проверяющий.
- Я метеоролог, - ответил «жёлтый», всем своим видом показывая, что желательно говорить ещё потише.
- Когда обращаются к военнослужащему, он обязан назвать свою должность, звание и фамилию. Вы же, вместо этого, сообщили мне о своём образовании. - Проверяющий произнёс это назидательным тоном, как бы подчёркивая, что сильно удивлён вопиющей неграмотностью и недалёкостью взрослого человека, стоящего перед ним.
- Видите ли, метеоролог это не образование, это должность, - сказал «жёлтый» нисколько не смутившись, но помолчав, всё-таки решил представиться, в соответствии с требованиями проверяющего. – Дежурный синоптик капитан Калистратов.
Причём Калистратов постарался сказать это как можно дружелюбнее, что задело члена проверяющей комиссии. В таких случаях полагается переходить на официально-извиняющийся тон, а выказывать дружелюбие – это не понятно что? Это как издёвка получается. А остальные хоть и не пошевелились, ясно, что разговор услышали, и спинами поведение дежурного синоптика одобрили. Во всяком случае, так выглядело.
Но и подполковник не с помойки явился. А фразу, которую он произнёс, видно, заранее приготовил на такие вот непредвиденные обстоятельства:
- Капитан, значит? – сказал вопросительно. – Попробуй, различи вас тут? Ходите все без погонов, как доктора по больнице.
И строго так сказал, осуждающе. Чтоб прочувствовали все глубину своего низкого падения. А ещё, чтобы обиделись и в ответ каких-нибудь гадостей надерзили. Тогда бы из обычной проверки можно целое ЧП состряпать. Есть у проверяющих такой безотказный приёмчик.
Только никакой обиженности не случилось. А который фиолетовый даже слегка оглянулся одобрительно и чуть не подмигнул, «мол, а ты ничего подполковник оказался, с юмором». Потом хмыкнул, и вслух произнёс:
- Надо запомнить!
После, как ни в чём не бывало, назад отвернулся, и в экран уставился.
Озадачила такая реакция подполковника и в тупик поставила, но он виду не подал. Ещё не вечер, как говорится. Хотя и ночь.
- Вы какое училище заканчивали? – спрашивает он дальше капитана синоптика.
- Я заканчивал не училище, я заканчивал институт, - отвечает тот всё так же дружелюбно.
- А-а, понятно, - говорит проверяющий.
Раз он из института, то что с него с юродивого возьмёшь. И уже как бы ко всем обращаясь, снова спрашивает:
- Так кто всё-таки здесь старший?
Синоптик опять влазит, и на серебристую спину показывает:
- Руководитель полётов командир эскадрильи подполковник Савченко. Тут бы этому Савченко встать, подойти и представиться проверяюще-
му. По уставу, если проверяемый равен по званию проверяющему, то он подходит и представляется, а если ниже, то ещё и докладывает. Даже на окружных учениях так всегда поступают, а тут даже не полковые учения, а всего лишь рядовые полёты. Но Савченко вместо того, чтобы вскочить поворачивается к фиолетовому и натурально начинает на него орать:
- Лёха, ты какого хрена тридцать пятого на систему запер? Фиолетовый же не оборачиваясь вполне спокойно отвечает:
- Да у него керосина вагон.
- Ты спрашивал, что ли? – почему-то уже спокойнее спрашивает Савченко.
- Да сам он туда попросился.
Савченко отворачивается, и как ни в чём не бывало дальше своими делами занимается. Стало быть, игнорирует проверяющего полностью. Но проверяющему это уже не главное. Он уже почувствовал, что бардак здесь происходит. Кого-то прямо при нём не туда послали. Возможно, на его глазах лётная авария готовится. Есть тут что шерстить. Только с вагоном не всё понятно.
- Где ваша лётная ведомость? – задаёт он вопрос, и всем своим видом показывает, что тише говорить не собирается. А если его будут продолжать игнорировать, то он может вопрос и повторить.
- Дай ему плановую, - вполоборота кидает Савченко синему.
Оказывается, слышит он всё, только прикидывается, что занят. Синий стряхивает сигаретный пепел с лежащего перед ним огромного листа и, не вставая, протягивает его проверяющему. Проверяющий кладёт лист на стол синоптику и начинает внимательно рассматривать.
Почти метровый лист испещрён кружочками, квадратиками, стрелочками. И всё это в окружении циферок. Проверяющий внимательно смотрит, но уже с первого взгляда ясно, что разобраться сходу не получится. Рядом лежат выкопировки синоптика. Там стрелочек и циферок поменьше, но ясности тоже нет.
Проверяющий понимает, что он зря начал заглядывать в эти бумаги. Если проверяющий берёт какой-либо документ, то обязательно должен сделать замечание, а тут непонятные стрелочки и кружочки. В общемто, чтобы сохранить лицо, у него остался единственный способ: вызвать сюда командира полка и отчитать его за незнание устава подчинёнными. Уж устав-то никто не отменял, а здесь подполковник дока.
- Где сейчас командир полка? – спрашивает он у синоптика.

- Лёха, где полста первый? – переспрашивает тот у фиолетового.
- В третьей с двадцать четвёртым, - отвечает Лёха.
Синоптик ведёт пальцем по «плановой» и показывает проверяющему на непонятный значок:
- Вот, они в зоне.
Проверяющий даже не желает взглянуть на значок, и переспрашивает с возмущением в голосе:
- Говорите яснее, без уголовной терминологии.
Синоптик начинает объяснять уже без дружелюбия, но как бы маленькому ребёнку:
- Я же Вам показываю. Командир полка выполняет пилотаж в пилотажной зоне номер три.
Проверяющий смотрит куда ему указывает синоптик. В глаза попадается число «501». Проверяющий понимает – это и есть обозначение командира полка.
- Здесь написано пятьсот один, а вы мне сказали полста первый, - укоряет он синоптика.
- Видите ли, пятьсот запросто можно перепутать с шестьсот или семь- сот. Поэтому у нас принято говорить «полста», - объясняет синоптик.
- Полста – это пятьдесят, - строго говорит проверяющий, - и полста один может означать только пятьдесят один, а не пятьсот один.
Тут в эфире звучит доклад:
- Полста девять на втором полторы.
- К четвёртому полторы полста девять, - командует в микрофон руководитель полётов.
Проверяющий достаёт блокнот и победно на глазах у синоптика записывает «Нарушение радиопереговоров».
- У нас вообще-то «радиообмен» называется, - оправдывается синоптик, теряя последние капли дружелюбия.
- Обмен у Маньки на базаре, - грубо обрывает подполковник, - а в эфире радиопереговоры.
Тут случается то, чего подполковник никогда в своей жизни не видел. Синоптик обижается на него и уходит. Ничего не говоря, не спрашивая разрешения, просто берёт и молча спускается вниз по лесенке. Вместо того, чтобы начать задабривать проверяющего рассказами о том, как скоро всё учтём и исправим, он просто обижается на него.
Чтобы проверяемый обиделся на проверяющего такого подполковник не только не встречал, но даже о таком никогда не слышал. К тому же он остался теперь без собеседника. Три «разноцветные спины», похоже, в беседу с ним вступать не собирались. Подполковник вынужден был теперь просто стоять и озираться по сторонам.
С командного пункта хорошо было видно, как включая форсаж, самолёты начинали разбег и взлетали. Оказалось, что с боку в условиях ночи, форсаж не походил на обычную струю пламени позади самолёта. Пламя вырывалось из сопла красивыми голубыми кольцами, которые уменьшались по мере удаления от сопла. Подполковник наблюдал, как огненные полосы, передвигаясь с большой скоростью, в конце растворялись в черноте ночи. Эта полосатая огненная струя буквально рвала воздух в клочья на многие сотни метров вокруг. Даже уплотнённое остекление СКП грозило разлететься вдребезги при взлёте очередного ракетоносца.
Тут в эфире прозвучал запрос:
- Пять тридцать девять взлёт максимал.
- Взлёт на максимале разрешаю, - сказал в микрофон Савченко, и бортовые огоньки самолёта поползли от начала взлётной полосы без всякого пламени.

Общевойсковому подполковнику уже наскучило стоять одному. С ним поступили обидно и некрасиво, но уйти просто так не позволяло гордое звание проверяющего. Хотя стоять дальше просто так – тоже было глупо. За время вынужденного бездействия он уже присмотрелся к взлётам и сразу заметил, что самолёт пошёл на разбег без форсажа.
- А вот этот у вас без зебры взлетел! - подполковник победно ткнул пальцем в темноту и с гордым видом покинул СКП.
К чему вспомнился этот случай? А ни к чему. Рассказ наш на самом деле совсем о другом. Так бывает. Просто со стороны армия кому-то кажется однородной массой, хотя до конца познать её не в состоянии ни один человек, прослужи он хоть сто лет.
Проверки – неотъемлемая часть воинских будней. Самыми важными считались годовые итоговые проверки. Вроде для того военные и должны весь год трудиться, чтобы годовую проверку успешно сдать. Были ещё полугодовые итоговые проверки. Тоже важное мероприятие.
Один раз к такой проверке решили транспарант изготовить, дабы серьёзность своего отношения проверяющим выказать. Дали солдатикам материю с краской и велели написать «Достойно встретим полугодовую итоговую проверку!» Естественно – к утру чтобы висело. Солдатики к утру и повесили.
Когда транспаранты политотдел готовил, то он обычно читал вывешенный текст, дабы не допустить политической ошибки. А тут штабные транспарантом занимались, поэтому проконтролировать забыли. Когда, тем более? К утру ведь висеть должно. Поэтому комиссию встретило такое приветствие «Достойно встретим полуитоговую проверку!»
А были совсем особенные проверки. Самого Министерства Обороны. Такие только раз в десять лет полагались. В положенный срок пришла такая проверка и в наш гвардейский полк. Возглавлял её к счастью авиационный человек – генерал-лейтенант Настенко.

Хотя полку согласно плана проверки предстояло наносить штурмовые удары по различным полигонам с перебазированием на другие аэродромы и даже в другие страны, началась она всё же с банального строевого смотра.
Части гарнизона построились на центральной заправочной и отрапортовали генералу о готовности к проведению. У самого Настенко, надо отдать ему должное, генеральские сапоги были сложены великолепной «гармошкой». Тем не менее, требовал он весьма жёстко и не делал никаких скидок «на авиацию».
Я же, как и во время остальных проверок, «пристроился» у знамени части. Красиво нести знамя полка и красиво при этом вышагивать не каждый сумеет. Но понимая, что в то время, когда остальные маршируют, обливаясь потом и горланя песню, знаменосец спокойно зевает у знамени, я постарался «произвести впечатление» и попасть в знаменосцы.
Знаменосец красиво выносит знамя в начале проверки, и красиво уносит его в конце. Остальное время он сонно смотрит, как однополчане мучаются. При этом усердно изображает сочувствие и тайно радуется.
Строевой смотр шёл своим чередом. Я, пристроив знамя хитрым способом, удобно расположился в его тени. Правый ассистент, прильнув ко мне поближе, тоже почти весь залез в тень. Левый завистливо смотрел на нас, но изменить ничего не мог. Настроение у всех было мирное, доброе. Собственно, ничего не предвещало…
Когда Настенко направился в нашу сторону, я даже представить себе не мог, что он остановится. Думал просто пройдёт мимо.
- Знамя к осмотру! – требовательно молвил генерал.
Я честно опешил. С одной стороны я понимал, что кроме меня по данному поводу он ни к кому обращаться не может, но глупо надеялся – может он начальника штаба полка спрашивает, который шёл рядом с ним.
- Знамя к осмотру! – повторил Настенко.
Хоть стреляйте, я не знал, что это означает, и продолжал тупо таращится. Начальник штаба из-за спины генерала показал мне, что я должен наклонить знамя вперёд. Я машинально выполнил подсказку, не зная, правильно ли я поступаю? Оказалось правильно. Генерал принялся внимательно осматривать полотнище знамени. Я внутренне выдохнул. Первый раз с таким сталкиваюсь. Надо же, знамя ему нужно осмотреть. А чего его осматривать? Тряпка – она и есть тряпка. Никому до Настенко не приходило в голову тряпку разглядывать. Чего же этот там нового собрался увидеть?
- Где второй орден? – вдруг обратился ко мне генерал.
Наверное, в этот момент у меня отвалилась челюсть и на лице проступили первичные признаки болезни Дауна, поскольку во взгляде Настенко мелькнула жалость. Опять он меня о чём-то спрашивает. Что сегодня за день такой?
- Где второй орден? – снова спрашивает Настенко.
Я уже совсем одурел. Три ордена у нас на знамени. При чём тут второй? Какой второй? Кто такой этот второй? Смотрю на знамя, смотрю на Настенко. Чего от меня хотят? Настенко, очевидно, решил больше не мучить больного и повернулся к начальнику штаба:
- Где второй орден?
По ответу начальника штаба я заподозрил, что болезнь Дауна начала принимать массовый характер.
- Какой орден? – в тон мне ответил тот.
- Ну, у вас же полк дважды краснознамённый? – задал наводящий вопрос Настенко.
- Так точно! – вытянулся в струнку начштаба. – Также ордена «Ленина» и ордена «Кутузова» третьей степени!
- Орден «Ленина» вижу, орден «Кутузова» тоже, - показал на полотно знамени генерал, - а орден Красного Знамени всего один. Раз полк дважды краснознамённый, значит, орденов должно быть два. Где второй орден?
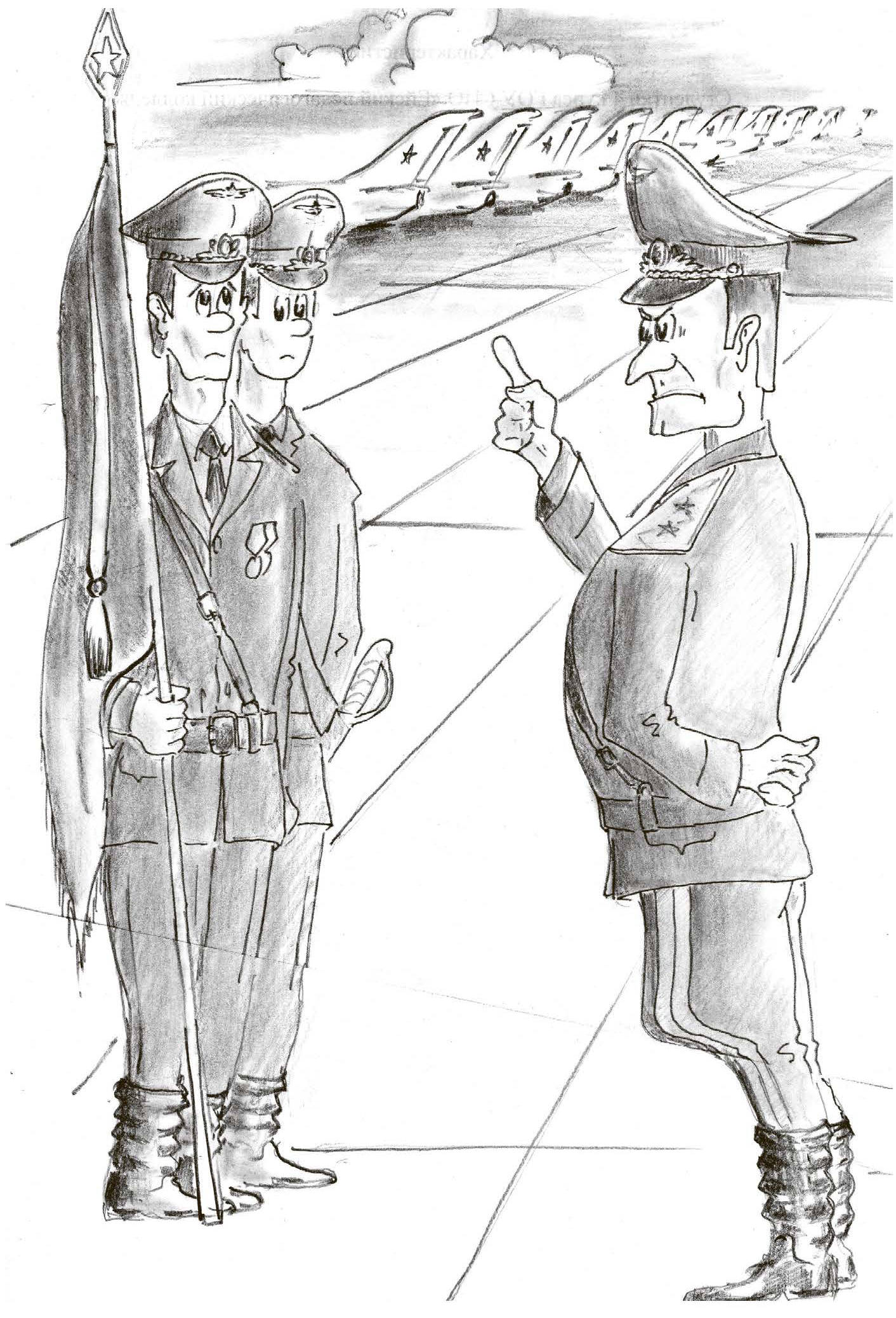
Начальник штаба подполковник Овечкин стал внимательно рассматривать знамя. К своему ужасу я тоже разглядел, что орденов «Красного Знамени» всего один. Понятно Овечкин увидел то же самое.
- Начстрой! – заорал Овечкин, хотя начстрой стоял рядом, поскольку командовал знамённой группой. – Где второй орден «Красного Знамени»?!
Начстрой, гад такой, долго молчал, тоже внимательно рассматривал знамя, но потом выпалил:
- Должен быть на месте.
И, главное, понимает же, сволочь, что ордена нет. Настенко, видя, что наступил полный тупик поворачивается ко мне:
- Вы знамя принимали?
- Так точно! – что я ещё мог сказать?
- Ордена пересчитывали?
- Нет, - ответил я упавшим голосом.
- Арестовать, - сказал Настенко.
Тихонько так сказал, вроде ни к кому не обращаясь. Для меня это как из другой жизни прозвучало. Стоял никого не трогал, минуту назад, засыпал себе почти. Тут на тебе: «Арестовать». Будто я в кино попал, и это всё не со мной происходит.
- За что? – оторопело спрашиваю.
- Ну раз вы знамя в полном порядке принимали, а теперь ордена нет, значит, кроме вас его украсть некому, - очень так логично объясняет мне генерал.
Нормально, мало того, что ордена на знамени нет, я ещё и в воры зачислен. Чёрт меня дёрнул в знаменосцы податься. Ходил бы сейчас вместе со всеми, песни горланил и ни о чём не беспокоился. А теперь что? Теперь мне, значит, срок должны припаять за воровство ордена со знамени родного полка. Это я теперь вместо перспективного военного лётчика должен работать заключённым и особо опасным рецидивистом?
Тут у меня мысли вдруг зашевелились, будто кто в них адреналина плеснул.
- Товарищ генерал-лейтенант, - кричу, и палец под орден «Кутузова» подсовываю, - смотрите, под орденами материя тёмная, а в других местах светля, выцветшая. Если бы на знамени действительно орден был, от него бы след остался в виде тёмного пятна. И дырка опять же должна иметься, а её нет. Где дырка?
- Не знаю, - говорит генерал, - это эксперты пускай определяют, а я по другой части.
И опять так спокойненько:
- Арестовать.
Понятно, что арестовать. Только у нас никто никогда никого не арестовывал, и даже приблизительно не знает, как это делается. Но девать- ся некуда. Приказ есть приказ.
- Сдать оружие! – командует мне начальник штаба. Я кобуру расстегнул, а там пусто.
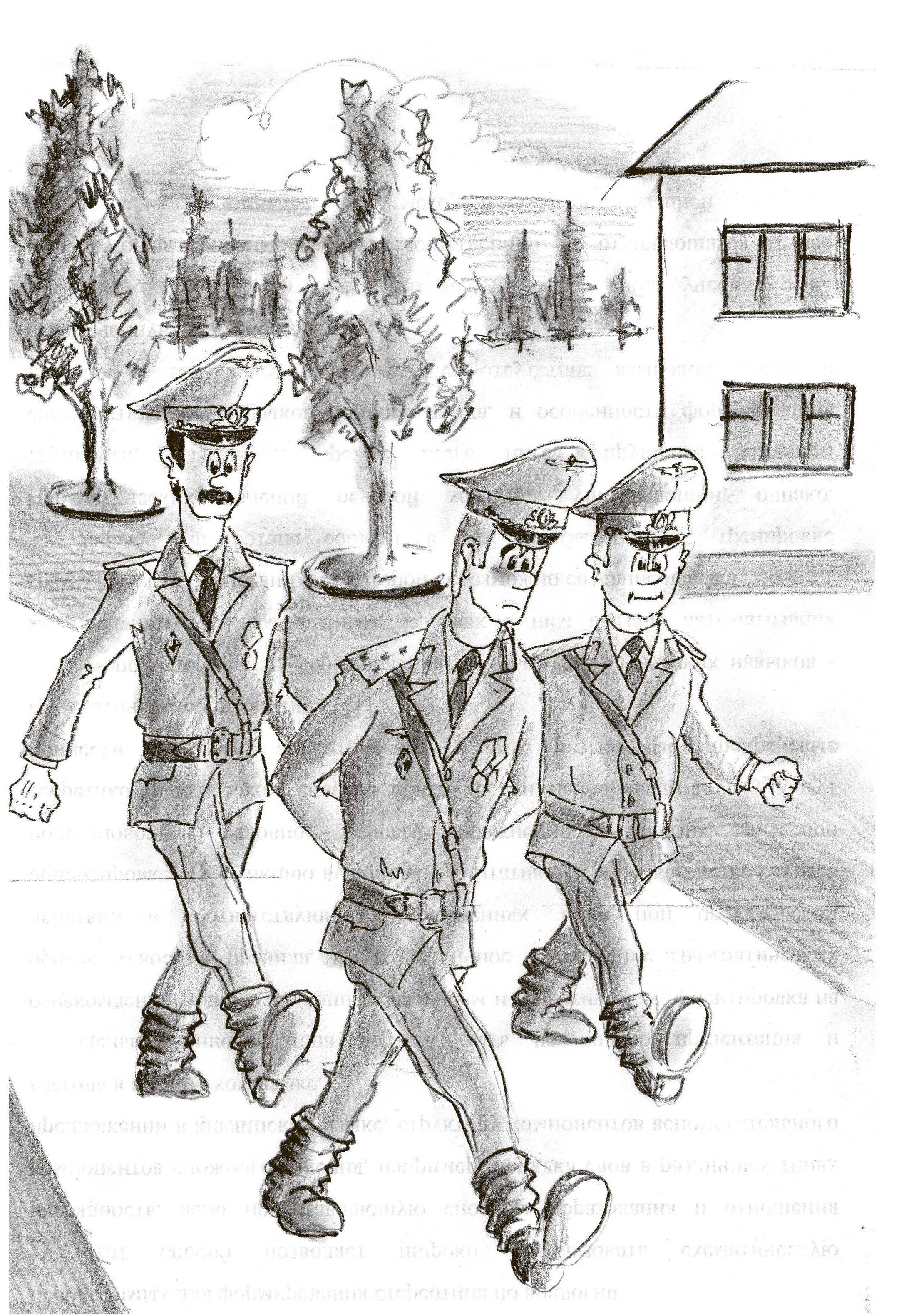
- Ты что, пистолет не получал? – скорее удивился, чем рассердился начштаба.
Конечно, не получал. Кому охота с тяжёлой «дурой» на боку два часа у знамени топтаться? Никогда в жизни пистолет для этого не получал и ни разу никто не проверил.
- Ну и порядки здесь, - говорит Настенко, - теперь мне совсем не удивительно, что именно в вашем полку орден со знамени сп…дили.
И пошёл дальше строевой смотр проверять.
Выделил начальник штаба мне двух конвоиров: моего старшего лётчика Саньку Крайнова и командира соседнего звена капитана Саркисова. Сказал:
- Сидите с ним в лётном классе и нигде не шляйтесь.
Пока в класс шли, я им всё доказывал, что никаких следов присутствия ордена на знамени нет. Значит, не мог я его украсть.
- Что ж его там, по-твоему, никогда не было? – спросил Крайнов.
Я осёкся. Действительно белиберда какая-то. Когда-то же он там точно был.
- Не забивай себе мозги, - отмахнулся Саркисов, - найдётся твой орден.
Пришли в класс. Посмотрели мои конвоиры в окно. Там народ марширует и конца этому не видно. Растянулись они на столах, кряхтят от удовольствия.
- Это Настенко хорошо придумал, - говорит Саркисов, - надо чтобы тебя каждый строевой смотр арестовывали. А профессия сторожа очень нужная и полезная. Я бы, - говорит, - к тебе штатным сторожем пошёл.
Посидели мы так довольно долго. Они уже засыпать начали. Я им говорю:
- Мне, товарищи сторожа, в сортир требуется. Извольте сопровождать.
- Ага, - говорят, - сейчас мы всё бросим и побежим смотреть, как ты серить будешь.
Пришлось самому себя конвоировать. Что с этих охранников возьмёшь?
Тут вижу я, начштаба с начстороем тоже в сторону штаба продвигаются. Видать и у них свербит не меньше моего. Если знамя части теряется – такую часть обычно расформировывают. А вот, если орден со знамени пропадает, то часть, конечно, не расформируют, но кто-то видать со своих должностей послетает точно. И начштаба с начстроем здесь не в посторонних числится будут. В любом случае без военной прокуратуры не обойдётся.
Подождал я ещё немного. Говорю конвоирам:
- Давайте в строевую часть сходим. Может новости какие узнаем. Саркисов голову от стола оторвал:
- Мне лично идти никуда не охота. Ты, Санька, если желаешь, - говорит Крайнову, - иди с ним, чтобы он совсем один не шлялся. А то Овечкин его одного увидит, на нас ещё отрываться начнёт.
Пошёл Сашка со мной. Я же его ведомый. Не мог он меня в трудную минуту бросить. Пришли в строевую часть.
- Где начстрой? – спрашиваем.
- К начальнику штаба с полковыми формулярами ушёл, - отвечают. Пошли мы к начальнику штаба полка. Я уж в кабинет без всяких фор-
мальностей вошёл.
- Нет ли чего нового, товарищ подполковник? - спрашиваю. Начстрой там же сидит, руками разводит:
- Чёрт знает, что, - говорит, - нет второго ордена «Красного Знамени» в формулярах. Не числится он за частью.
- Вот, - говорю я, - значит правильно, что от него следов на знамени нет. Значит, не мог я спереть то, чего нигде не числится. И арестован я, выходит, зря. Ни за что, стало быть. И честное имя мое, значит, теперь восстановленное, хоть и сильно пострадавшее.
Овечкин вместо того, чтобы со мной порадоваться рассвирепел:
- Пошёл в жопу! – кричит. – Иди отседова, и под ногами не путайся. А то я тебя сейчас точно арестую, и вообще мало не покажется.
Понятно почему нервничает человек. Мы с ним вроде местами поменялись. У меня полная надежда, что я не виноват появилась, а за орден теперь всем штабом отвечать придётся.
Просидел я с конвоирами ещё час примерно. Те совсем расслабились, храпеть оба начали. Но и у меня настроение тоже ничего. Ноги вытянул. В окно смотрю. Погода оказывается хорошая.
Заходит подполковник Овечкин. Вид уставший, но в общем довольный.
- Да, заварил ты, Кубякин, кашу, - говорит.
- Да при чём здесь… - начал я было.
- Молчи, - говорит Овечкин. – А то столько во мне страданий накопилось, что я их ненароком на первого встречного могу обрушить. Да так, что потом сам об этом жалеть буду и тот, естественно, тоже.
И рассказал причину сегодняшних недоразумений. Оказалось, в 1943 году, во время Великой Отечественной войны нашему гвардейскому полку было вручено «красное знамя» в виде красного полотнища на древке. Оно, это знамя, само являлось наградой. И тогда полк впервые стал
«Краснознамённым». А второй раз, когда полк награждали, ему вручили уже орден «Красного Знамени», который прикрепили к полковому красному знамени. Поэтому на знамени всего один орден «Красного Знамени». Значит, никаких орденов у нас не пропадало, и никто их не воровал.
Приятно было узнать, что всё хорошо закончилось, но я не удержался и поделился своими сомнениями:
- Товарищ подполковник, - спросил я, - как думаете, Настенко знал, что в годы Войны полки награждались знамёнами, а не орденами?
Овечкин помолчал, и устало произнёс:
- Вполне мог знать, старый чёрт. Потом добавил.
- И поделом нам. В истории собственного полка не разбираемся. Позор!
Перелыгин
Служил с нами в полку Саша Перелыгин. Был он большой умница, отличник и Фрунзенский стипендиат. Его по этому поводу даже во Францию послали, правда ненадолго и всего один раз, но всё-таки. А в этой самой Франции их встречали, всячески водили и показывали. А когда наливать начали, то Сане самому первому из всей делегации налили, хоть был он по званию всего сержант, а остальные полковники. Возможно, подобное Санино почитание произошло из-за путаницы с воинскими званиями, которая процветает в их французской армии.
Дело в том, что офицеры у них на погонах носят не звёзды, а лычки, как наши сержанты. А вот французские унтера на погонах носят звёздочки. Саня как раз был сержантом. Очевидно, из-за этих сержантских лычек французские официанты и посчитали Саню офицером. В то же время советских полковников, которые возглавляли делегацию, приняли за мажоров (мажор - почётный прапорщик).
Когда начался торжественный фуршет по поводу дружеской встречи Французского и Советского авиационных училищ, официанты вышли с вином и по этикету направились сначала к гостям. Но поскольку занятий по отличиям советских воинских званий с ними предварительно никто не проводил, они и налили первому Перелыгину. А потом только полковникам.

Одним из полковников, кстати, был В.С. Михайлов, будущий генерал армии и главнокомандующий ВВС. Глядя, что сержанту налили вперёд него, он так удивился, что даже не нашёл, что сказать. Михайлов владел тремя языками (русским, командирским и матерным со словарём), но вот промолчал.
По правде сказать, таким почётом Саня ещё в Москве начал пользоваться. Ему когда во Францию собирали, новую парадную форму выдали. Только незадача вышла. Брюки к парадной форме рядового состава в Советском Союзе являли собой образец высочайшего уродства. Надев их и глядя в зеркало, рядовой должен был осознавать, что он урод и полное ничтожество. Очевидно, в этом содержался некий воспитательный момент. Но посылать во Францию человека в таких брюках не входило в первоначаль- ные планы военных модельеров. А демонстрировать всей Франции, какие в Союзе служат уроды, не входило в планы партийного руководства.
Поэтому, узрев Саню в форменных брюках, генерал из политуправления спросил:
- Нормальные брюки есть?
Именно так и спросил «нормальные». Саня ответил, что есть. Не только французы, но и военнослужащие Союза вполне осознавали, как они выглядят в подобном наряде. Поэтому каждый курсант, начиная со второго курса, обязательно шил себе запасной комплект «нормальных» брюк.
Хотя носить «нормальные» брюки было небезопасно. «Нормальные» брюки считались большим нарушением формы одежды, и из-за них вполне можно было оказаться даже на гауптвахте.
Понятно, что Саня не собирался пугать Францию и остальные страны НАТО форменными брюками, для этого вполне хватало танков с ракетами, и, естественно, прихватил для поездки во Францию комплект «нормальных» брюк. Генерал не первый день служил в армии, и вполне понимал такие тонкости.
- Переоденься, - велел генерал Сане, - а эти спрячь пока.
При этом тыкнул в форменные уродские брюки. Сане, конечно, два раза повторять не потребовалось. Переоделся он в шикарные запретные брюки и смело погнал «подметать клешами» столицу. Причём по самому центру вышагивал, где лучшим людям страны ходить полагается.
А в центре, понятное дело, военных патрулей видимо, не видимо. Где же ещё порядок блюсти, как не в центре. Бредёт Саня радостный по столице, клешами кренделя выписывает. А как патруль завидит, так прямо начальнику в лицо улыбается. Может оно и правильно. Когда ещё такой случай выдастся? Патруль очередной тоже к Сане радостный подлетает. Вот оно нарушение! Само в руки плывёт. Тем более курсант третьего курса – это не солдат первогодок. За такого точно похвалят.
- Ваши документы, товарищ сержант, - и ехидно так на брюки поглядывает.
Мол, по порядку всё. Начнём с документов, а там и до штанов доберёмся. Не знает ещё патруль, что не видать ему Саниных штанов, и не будет ему за эти штаны награды.

- Вот мои документы, - говорит Саша улыбаясь, и протягивает патрулю заграничный паспорт.
Начальник патруля, возможно впервые увидев настоящий заграничный паспорт, долго крутит его в руках, пытаясь сообразить, что это такое и почему оно не военный билет. Необходимо напомнить, что красный загранпаспорт для посещения соцлагеря хоть редко, но встречался, а вот синий для поездки в капиталистические страны почти никто в глаза не видел, и потому, естественно, узнавал с трудом. Отработав в голове несколько версий от «шпиона» до «разведчика» и вытянувшись в лице, патрульный уже более осторожно спрашивает:
- А другие документы имеются?
- Имеются, - всё так же радуясь, отвечает Саня, и протягивает билет «Москва – Париж». – А если ещё будут вопросы, то позвоните по этому телефону.
Капитаны и старшие лейтенанты смотрели на билет и пробормотав невнятно: «Ну тебя в задницу», Саню отпускали. А полковники сурово и нервно звонили по указанному телефону. Узнав, что попали в главный штаб министерства Обороны и выслушав указания насчёт Сани, отвечали «Есть», затем вешали трубку. Потом скрипели зубами, отдавали документы и сквозь эти же зубы цедили:
- Продолжайте движение товарищ сержант.
Конечно, для тогдашних людей это отдавало мистикой. Вероятность встречи подобного явления на улицах Москвы в 70-е годы прошлого столетия была намного меньше, чем вероятность встречи инопланетянина. Получив документы назад, скромный небожитель вежливо отходил от патруля и продолжал своё волшебное путешествие.
Так Саня развлекался на всю катушку. А что делать? Вряд ли когда такое ещё представится? Но дело не в Сане. Это я к слову про его похождения вспомнил. Дело в том, что он очень любил рассказывать всевозможные истории. И историй этих было у него много. Все они были жизненные. А главное он почти всегда сам в них участвовал. Один раз он поведал нам такой случай. Уже не знаю точно, был он очевидцем или нет, но рассказал он следующее.
Стоял, значит, как-то Саня на улице возле пивной бочки и пил себе пиво. Народу возле бочки, как обычно набралось много. И народ был всякий. Стояли там вполне приличные, солидные люди, а были и всевозможные тунеядцы, которые работать не хотели, а только пили пиво.
Эти тунеядцы за неимением денег, всячески старались найти когонибудь, кто бы заплатил за их пиво. И зачастую подвыпивший народ платил за этих тунеядцев, приговаривая:
- Кто знает? Может и самому когда-то, так же побираться придётся? И вот подходит подобный тунеядец к двум мужикам по соседству с Саней.
- Налейте, - говорит, - мужики пива. Душа горит.
Но те ему отказали. Мол, плати да наливай. Кто тебе мешает? Однако тунеядец этот не отходит. Мнётся возле них. По всему видно, понял он, что мужики эти солидные, и лишних двадцать две копейки у них точно имеются.
- А ежели рассмешу я вас, нальёте пива? – вдруг спрашивает у них неожиданно.
Мужики аж пить перестали. Смотрят на него и думают: чем он их рассмешить сможет? А ладно, думают, всё равно не отстанет. Тем более, если не рассмешит, то значит и пива никакого не получит.
- Валяй, - говорят, - если рассмешишь – нальём.
А дело было возле троллейбусной остановки. Троллейбусы подъезжали, останавливались, народ высаживали и дальше ехали. Подъехал к остановке очередной троллейбус. Тунеядец этот оббежал его со стороны водителя. Подходит к верёвкам, которые к электрическим рогам привязаны, размотал их и за верёвки эти потянул. Рога-то от проводов отстали и зависли в воздухе.
А тунеядец этот верёвки в руках держит, не даёт рогам к проводам присоединиться и сам по сторонам головой крутит. Тут мимо дедок идёт интеллигентного вида. При шляпе, костюме и с портфелем. Тунеядец ему:
- Молодой человек! Помогите пожалуйста верёвки подержать. Пойду стартер нажму. А то, что-то не заводится.
Дедок по сторонам осмотрелся. Вроде к нему обращаются. Покряхтел. Нехотя сунул портфель под мышку и за верёвки взялся.
- Я мигом, - говорит ему тунеядец, - буквально минутное дело. Совсем вас не задержу.
И побежал вроде на водительское кресло. А сам обошёл опять троллейбус и подходит к мужикам.
- Вот, - говорит, - мужики. Обождите секунду. Сейчас начнётся.
Тут уж все кто возле бочки стоял ждать начали – чего же дальше будет? Смотрят они, водитель в кабине и так старается и сяк. Только не за-
водится у него троллейбус. Всё водитель видно перепробовал, потому как сильно озабоченный из кабины на улицу вылез. Не может он понять, почему вдруг троллейбус ни с того, ни с сего заглох.
Поднял водитель глаза к небу и обомлел. Рога электрические в воздухе болтаются. Почему – ему из-за троллейбуса не видно, но ясно их кто-то специально держит.
Прошёлся водитель в конец троллейбуса. Точно! Оттянул какой-то старикашка рога от проводов, хулиган престарелый, и, главное, на водителя ноль внимания.
Водитель кипит внутри, естественно, но уважая возраст, интеллигентно спрашивает:
- Ты что же это старый осёл удумал?
А дедок вместо того, чтобы извиняться начать или хотя бы наутёк пуститься, злобно так отвечает:
- Не твоё дело, сопляк!
У водителя аж внутри полыхнуло, еле сдержался. Посмотрел по сторонам, кто бы ему помог этого старого придурка урезонить? Но народ ближайший только у пивной бочки стоит. И странно как-то стоит. Пиво не пьёт, только глаза таращит. Вроде как ждут чего-то. Понятно от таких помощи не дождёшься.
- Долго ты ещё тут идиота корчить собираешься? – снова интеллигентно спрашивает дедка водитель.
А тот ещё злее ему в ответ:
- Иди своей дорогой сопляк, а то неизвестно ещё какой осёл тут идиота корчить будет?
Не стерпел, конечно, водитель. Разразился тирадой матерной. Обозвал наглого старикашку по всякому, да и треснул ему кулаком по башке.
Тут народ возле пивной бочки, вместо того, чтобы посочувствовать водителю стал ржать во всю глотку и со смеху валиться. И дедок не сбежал после своей пакости. Рот оттопырил, стоит, смотрит на водителя удивлённо, будто первый раз узнал, что за такие пакости полагается. Теперь водитель рот открыл. Не поймёт, что же такое происходит.

Но закончилось дело миром. Дедок рога отпустил и ушёл обиженный. Водитель рога к проводам приставил и уехал. А тунеядец этот потом до вечера пиво бесплатно дул. И ещё бы дул, если б пиво в бочке не кончилось.

*
Любил Саня вспоминать ещё одно происшествие, свидетелем коего и частично участником оказался его отец.
У них в Сибири зимой народ особо не трудится. Потому как всё посеяно и убрано заранее. А зимой там настоящий отдых телу и душе. Зимой больше на печи лежат, и по гостям ходят.
Зашёл как-то и к его отцу кум. Кума конечно встретили. Холодца достали, солёностей, горилочки, ну и всего что положено. Посидели они с отцом, отведали. Обсудили последние новости и вообще. И захотелось им душистого самосада покурить. Только хата небольшая, чего в ней зря воздух портить.
Вышли они на двор к овину. Скрутили добрые самокрутки и задымили. На улице ночь уже. Звёзды ясные горят. Морозец потрескивает. Воздух свежий, ядрёный. Дивная погода. Замечательная. Что-то в ней даже от хутора близь Диканьки угадывается. Пыхают они, значит табачком, беседуют любовно. Только тут кум и сообщает, что от щедрого угощения прижало его невмоготу, поэтому на ночь глядючи ему срочно облегчение требуется, чтобы заново жизненную радость обрести.
- От чего же, - отвечает отец, - оставьте беспокоиться, дорогой кум. И лишними переживаниями себя не мучайте. Мы чай не в городе каком проживаем, чтобы по таким пустякам канитель разводить. Вот прямо к овину и присаживайтесь.
Кум так и сделал. И прошедши за овин присел. А отец, значит, дальше с самокруткой стоит, природой любуется. Звёзды, луна, дымок из трубы и всё такое. Только начало ему казаться, будто в овине самом происходит что-то. Буд-то звуки от туда какие идут. Прислушался батя. Точно, идут звуки.
До чрезвычайности непонятная картина образовалась. Как могло случиться, что в его собственном овине звуки происходят? Решил он пойти в овин посмотреть. Как зашёл, сразу свет включил. А там… Огромный волчара подкоп в овин соорудил и овец режет! Как увидел отец волка громадного, глаза его сверкающие, да пасть всю в крови, да как заорёт нечеловеческим голосом! Орал он видать страшно, поскольку волк послушавши батю вместо того, чтобы озвереть, пустился наутёк. По всему можно сказать, что волк побежал сильно испугамшись.
Нырнул, значит, волк в свой подкоп и больше батя его не увидел. Поорал батя ещё от неожиданности только видит, что орать надобности больше нет. К чему орать, если волк убёг, а в овине только овцы недорезанные остались? Пошёл было он к двери. Да не тут-то было. Ноги с испугу не идут. Не гнутся они вовсе, только в коленках трусятся.
Так бы батя в овине и остался. Благо на крик родственники сбегаться начали и на воздух его вытащили. А родни много набежало. Считай все. Стали они интересоваться причинами такого малопонятного крика. А тот бы и рад сказать, да не выходит. Во рту засохло всё и слова нужные повылетали. Всё, что ни скажет, всё не нужное.
Видят родственники соображение от отца неважное, но как люди бывалые первую помощь оказали. Влили они в батю немного кедровки, как первое средство. Помогло. Отдышался батя, говорить начал. Ну и рассказал, как курили, как кум ушёл, и про волка рассказал.
- А где же кум? – родственники спрашивают.
Глядь кругом, а нету кума. Что за новая напасть? Кричали, кричали – не отзывается. Стали за овин по его следам идти. А следы аккурат к подкопу волчьему ведут. Только нету у подкопа кума. Подкоп есть, а кума нет.
И, главное, следов волчьих тоже нет. Вроде волк от подкопа без следов отбыл. Тут уж и домовых вспомнили, и оборотней. Но идёт по снегу от подкопа полоса какая-то. Будто мешок картошки тащили. В сторону леса полоса эта направлена. Вот прямо по ней и пошли.
А метров через пятьдесят и наткнулись на кума. Лежит бедняга в обмороке, без сознания, ногами в сторону леса, и штанов на нём нет. Видно полоса снежная не от мешка с картошкой, а от самого кума осталась. Кум, значит своей спиной все волчьи следы и затёр. А после кума дальше в лес уже волчий след ведёт. Пошли по волчьему следу.
Ещё метров через сто и волка самого нашли. Лежит волк, весь в кумовских какашках, а штаны кумовские у него на голове. По всему выходит, кум прямо над подкопом по нужде присел, а волк когда из подкопа выскакивал так головой в штаны ему и угодил. Получается, из-за штанов этих волк ничего не видел, а кума в это время за собой волоком тащил. Вот нервы у него не выдержали. Помер волк от разрыва сердца.

Казачкин
Казачкин – это как раз тот, о ком вспоминать вообще бы не стоило. Подобные типы в авиации крайне редкое явление. Благо Ейское училище не замарало себя наличием подобного выпускника. Вспоминаю о нём вынужденно, поскольку ему в моей судьбе принадлежит поворотная роль.
Прибыл он к нам в Венгрию на должность командира первого гвардейского авиационного полка. Прибыл, надо уточнить так же с должности командира полка, но только учебного. Вырос он по служебной лестнице сугубо в учебном подразделении города Овруч. И вырос замечательно быстро. Весьма мохнатая лапа из партийно-советских органов тянула его по служебной лестнице.
Когда его представили личному составу, он обвёл всех ненавидящим взглядом и не произнёс даже маленькой банальной фразы, обычно присутствующей в таких случаях.
Случилось так, что вскоре подошёл праздник, на котором полк строился в парадной форме одежды. А был в то время такой курьёз. Под парадную форму следовало одевать ботинки чёрного цвета, но их по нормам не выдавали. Выдавались только коричневые ботинки под повседневную форму. Чёрные же ботинки военнослужащие обязаны были приобретать за свой счёт.
Понятно, что несколько человек из полка обязательно приходили на торжества в коричневых ботинках. Может кого-то жаба душила на чёрные раскошелиться или ещё по какой причине. Так вот Казачкин припёрся в красных.
Вид нового командира полка в красных ботинках произвёл небывалое оживление в рядах. Личный состав, начав с обычных возгласов типа:
«Ни хрена себе!», вскоре перешёл к выдвижению версий случившегося. Поскольку, ни одной нормальной версии в этом случае выдвинуть было невозможно, то народ выдвигал такие, от которых задние ряды дружно тряслись в приступах смеха. Уловив настроение личного состава, Казачкин отреагировал весьма оригинальным способом. Он тут же провёл осмотр формы полка и всем кто был в коричневых ботинках влупил по строгому выговору «за нарушение формы одежды».
С одной стороны он подчеркнул, что ему плевать на всякие условности типа праздников (в праздники до Казачкина никогда никого не наказывали), а с другой указал всем «их место». Он показал, что может творить всё что ему заблагорассудится, не глядя ни на какие законы и положения. Остальные же будут делать то, что он им прикажет. При этом недвусмысленно намекнул, что люди видятся ему не крупнее вши и он готов раздавить любого.
Фокус с ботинками он приготовил заранее. Казачкин считал себя вождём, первосвященником и главным инквизитором в одном лице. В самом крайнем случае он смог бы согласиться просто на царя. Власти обычного командира полка ему не хватало, и он компенсировал эту недостачу вот таким больным способом.
Похожие вещи он выделывал не раз. Вскорости, нечто подобное он вытворил с причёсками. Поскольку он был очень молодой командир полка, то ещё даже не успел закончить академии, и учился в ней заочно, одновременно исполняя обязанности командира. Тоже, знаете, небывалый случай в командирской практике.
За время учёбы в Москве он отпустил себе волосы до воротника и по приезду в полк, в таком виде пришёл проводить утреннее построение. Конечно, у народа глаза лезли сильно вверх, а челюсти сильно вниз. Командир полка не просто плевал на основы военной службы, он на них принародно клал.
Казачкин же «размахивая патлами» опять лично осмотрел всех присутствующих и объявил более двадцати выговоров тем, чья причёска ему не понравилась. Выговора он объявлял с откровенным презрением и брезгливостью к наказуемым.
Обычно, глядя на Казачкина, вспоминались строки из СалтыковаЩедрина: «И точно: не успели мужики оглянуться, а Топтыгин уж тут как тут. Прибежал он на воеводство ранним утром, в самый михайлов день, и сейчас же решил: быть назавтра кровопролитию. Что заставило его принять такое решение – неизвестно: ибо он, собственно говоря, не был зол, а так, скотина».
Хотя Казачкин всё же был не совсем таков, как салтыковский Топтыгин. «Скотины», они ведь даже добрые бывают. Ну хотя бы с виду. А этот даже с виду таковым не был. Главной чертой его было – презрение. И презирал он всех фанатично и самозабвенно. И исключений никому не делал. Даже своих заместителей, которые являлись его ближайшими помощниками и опорой презирал прилюдно и показательно.
Заместители командира полка во все времена почитались на уровне самого командира полка. Они всегда стоят рядом с командиром на построениях, сидят вместе с ним в президиуме на собраниях. Командир отмечает праздничные даты исключительно в кругу заместителей, а жена командира, как правило, общается только с жёнами его заместителей. Это обычный порядок вещей, выработанный десятилетиями и оправдавший себя на практике. Если кому-то из заместителей и объявляли взыскание, то для остальных это оставалось тайной за семью печатями. Заместитель в глазах остального личного состава должен выглядеть непогрешимым, иначе как же он тогда этим личным составом сможет командовать?
Представьте, каково было наше удивление, когда Казачкин, при всём составе полка (что опять являлось грубейшим нарушением устава), приказал своему заместителю выйти на середину, хотя тот и так стоял в середине, и объявил ему выговор. Да ни за просто так, а за злоупотребление спиртными напитками! Думается вряд ли какого заместителя ещё где так унижали?
Взыскания он вообще очень любил. Сыпал ими с небывалой скоростью. Строчил прямо взысканиями. Как стахановец в забое. Как пулемётчик Ганс из нового диска. И, похоже, после каждого очередного наложения взыскания испытывал неподдельный оргазм. Ну так ему нравилось! У командиров эскадрилий, к слову сказать, очень скоро закончились штатные карточки для записи взысканий. Начальник строевой части вынужден был заводить им дополнительные, поскольку в старые взыскания уже не помещались.
К чести начальника строевой части – открою один секрет. Надеюсь, это ему уже никак не повредит. Когда офицеров переводили к новым местам службы, он просто выкидывал «многотомные» карточки взысканий, а вместо них вставлял офицерам чистые.
- Ну не может у человека быть столько взысканий, - говорил он при этом. – Ещё подумают, что в первом гвардейском одни идиоты служат?
Так, что многие карательные казачкинские меры дальше мусорной корзины не уехали. Но вот один раз Казачкин дал слабинку. Да, было такое дело. Никто не ожидал. И в первую очередь он сам.
В те времена существовала практика приглашать на авиационный полигон командующего военным округом (в нашем случае Группой Войск), и устраивать для него шоу из огня и дыма. По документам это считалось проведением учений. На практике сухопутному командованию округа пускалась в глаза пыль – в прямом смысле и в огромном количестве.
На самолёты подвешивали боеприпасы, способные производить наибольший огнепыледымовой эффект. Это были бомбы, от которых поднимались неимоверные столбы пыли, зажигательные баки, которые поджигали полосы длиной по полкилометра за раз, и ракеты, у которых выходящий шлейф был наиболее яркий и длинный.
При этом полк «отрабатывал» всего за шесть минут. Через шесть минут полигон превращался в огромный шар огня и пыли. Праздничный московский салют нельзя назвать даже жалким подобием этого полигонного зрелища. Чего скрывать, эффект был потрясающий. После чего командир полка, встав из-за командного пульта, торжественно докладывал командующему, что учения завершены, и войсковая бригада условного противника уничтожена под корень.
Сухопутные офицеры из свиты командующих удивлённо таращили глаза. Командующие не скрывая удовольствия, принимали доклад и благодарили полк за выучку. Думается и обычные люди с не меньшим удовольствием понаблюдали бы за таким «ударом» штурмового полка.
Вот пришло время очередного приглашения сухопутному командованию. Казачкин, естественно, как командир полка должен был сам в присутствии командующего руководить нанесением такого удара по полигону. Для этого он туда и поехал.
Тут надо оговориться, что шестиминутное нанесение удара по полигону предполагает построение сложнейшего воздушного механизма. В воздухе строится невообразимая абракадабра. Удары наносятся с различных направлений. Зачастую пуски ракет производятся на встречных курсах. Не один год требуется воздушному полку, чтобы освоить подобную технику нанесения удара.
Первыйгвардейскийполктакойтехникойобладалвсовершенстве.Не зря в нём службу проходили в основном лётчики первого класса и «снайпера».
Не знаком с данной техникой оказался только… командир полка. Карабкаясь по служебным лестничным пролётам исключительно в учебных частях – он о такой технике знал только понаслышке. А тут ему предстояло этой абракадаброй управлять самому. Понятно, что командуя полком в перерывах между академической учёбой, у него не хватило времени разобраться, чем на самом деле полк занимается.
Как уже было сказано выше, своё «мастерство» Казачкин должен был демонстрировать в присутствии высшего командования Группы Войск. Понятно, что от волнения Казачкина трясло накануне, как школьника перед контрольной. Ведь высокое командование вполне могло увидеть и разобраться, что за «профессионал» перед ними на самом деле. Возможно, Казачкин всю ночь накануне не сомкнул глаз.
Но хитёр был, шельмец. И изворотлив. Он на всякий случай, захватил с собой подполковника Слюсаревского – представителя старой гвардии. Слюсаревский училище заканчивал ещё с космонавтом Леоновывм. И, как выяснилось, не зря.
После отработки первых двух звеньев, когда в эфире повисли десятки докладов, запросов и команд, Казачкин «завис», как выражаются ныне программисты. Должен был наступить полный «аут», с дальнейшим всплыванием на поверхность неприглядной, безобразной правды. Тут-то Слюсаревский и выхватил микрофон из рук охреневшего командира, и начал уверенно управлять воздушным движением. Казачкин же даже не вылез из своего кресла и вообще перестал вертеть головой. Но в конечном итоге полк отработал штатно.
Командующий, не разбирающийся в тонкостях организации лётной работы, не придал значение данной подмене и работой полка остался архидоволен. Хвалил Казачкина на чём свет стоит. Обещал ему всяких благ и продвижений. Тут Казачкин, после предшествующих волнений, а потом неожиданно свалившегося счастья и дал слабину.
Он вернулся с полигона возбуждённый, в состоянии радостной эй- фории. Счастливо улыбался, здоровался со всеми и, похоже, собирался обнять весь мир. Проще говоря – он был не в себе. Собрав лётный состав в классе, горячо и от души благодарил его:
- Спасибо! Спасибо! Молодцы! Настоящие бойцы! Ассы! Всем объявляю благодарность! Молодцы! Спасибо! Всем благодарность!
Мы, конечно, были крайне удивлены таким поведением Казачкина и грешным делом подумали, что он, в общем-то, неплохой человек, просто до этого старался казаться построже на пользу дела. Но как показали дальнейшие события, в своих рассуждениях мы тоже попали под действие эйфории.
Видимо, отойдя от первых впечатлений, и промучившись следующую ночь, Казачкин с утра даже не стал проводить обычного построения. Приняв доклад, он распустил полк, а лётному составу приказал собрать- ся в курилке на улице. Мы потом поняли, почему на улице. Просто он хотел, чтобы данное представление лицезрел весь личный состав полка.
Вернувшись в своё обычное презрительное состояние, Казачкин обвёл нас злыми глазами:
- Шатилов, тебя как зовут? – вдруг спросил он негромко.
Шатилов удивился человеческому вопросу, но после вчерашних благодарностей, постыдился своего удивления:
- Лёша, - сказал он добродушно и против воли улыбнулся.
- Выговор тебе Лёша, - уже громко и резко выкрикнул Казачкин, и, не ожидая положенного в таких случаях «Есть выговор», перевёл взгляд на Кирикова. – Тебе Кириков тоже выговор!
Стало заметно, как изнутри Казачкина донимает вчерашняя сцена благодарности и человечности. Она просто выжигала его. Он ненавидел себя за эту сцену и страдал всей душой. Страдал жестоко и тяжело. Наверное, страдания Отелло по сравнению с Казачкиными выглядели переживаниями дачника в очереди за билетом на электричку.
Но больше себя он всё-таки ненавидел свидетелей своей человеческой слабости – то есть нас:
- Всем выговор! – истошно кричал он. - Слышите? Всем выговор! Поцелуев, а тебя я выгоню из армии за пьянство! Савченко, а тебя я в тюрьму посажу! Пошли отсюда все! Все! И помните, что я сказал! Все!
*
Казачкин требовал к себе безоговорочного чинопочитания. И может быть даже оказался снисходительным к тому, кто начал бы ему «лизать». Но ни одного такого лётчика в нашем полку не нашлось, поэтому, стал бы он снисходительным или нет? – дальше догадок мы продвинуться не можем.
Лётчики отказывались в общении с ним терять чувство собственного достоинства. У Казачкина так и не появилось ни одного прихвостня. Он жил в полном одиночестве, выглядывая на мир из норки собственного тщеславия.
Как я уже поминал, Казачкин обладал огромным запасом изворотливости. Например, убывая очередной раз на полигон (для руководства учебными полётами) он в качестве наблюдающего, вместо положенного солдата срочной службы брал с собой целого лётчика, то бишь – офицера. Естественно, такой «наблюдающий» был способен оказать любую квалифицированную помощь, не сравнимую с солдатской срочной службы. Казачкин умел страховаться. В своё время выпало и мне счастье отправиться с ним на полигон.
Прибыв на место, Казачкин по обыкновению всем своим видом выказывал ко мне презрение. Я, наверное, с не меньшим энтузиазмом давал понять, что мне плевать на его презрение, а также на него самого. Тем не менее, когда подошло время приёма пищи, Казачкин посчитал унизительным самому себе мазать бутерброд.
- Кубякин, намажь мне булку маслом, - не удостоив меня взглядом, приказал он.
Ну так захотелось сбить с него самовлюблённую спесь. И, знаете, получилось.
- С превеликим желанием, - сказал я и оскалил клыки в резиновой улыбке. – Жаль, здесь руки помыть нечем, а то я только что поссал.
- Тогда не надо, - испуганно крикнул Казачкин.
И молниеносно схватил свою булочку со стола, после чего намазал её сам. При этом руки его тряслись от злости, а на меня он посмотрел так, будто захотел сожрать. И, что интересно, таки сожрал. Вот таким простым способом, без патриотических рапортов и высокопарных просьб, вместо блаженной Венгрии я оказался в пыльном Афганистане.
Казачкин же, закончив академию, отправился в другой гарнизон, на повышение. И, в общем-то, достиг больших высот по службе. Люди с подобными качествами весьма востребованы в армии.
*
Как бы странно не выглядело, но я хочу сказать спасибо Казачкину. Наверняка, отбыв положенный срок в Венгрии, мы с женой начали бы искать, кому сунуть взятку (служба за границей позволяла скопить денег на означенное преступление), чтобы продолжить службу в «тёплом» местечке Советского Союза. И наверняка бы нам это удалось.
У меня не случилось бы в жизни тех трудных, но таких дорогих сердцу лет. Я не встретил бы своих боевых товарищей. Я не полетал бы всласть, выжимая из самолёта то, что выжимать из него не положено. Я просто бы где-то спокойно дослуживал до пенсии, втайне завидуя настоящим
«боевым» лётчикам. И всю жизнь жестоко бы жалел, что не довелось отведать настоящей мужской работы.
Но это ещё не всё за что я хочу сказать спасибо Казачкину. Представляю, если бы я нашёл место службы где-нибудь в Прибалтике или на Украине, а именно там находились самые «тёплые» места. Случись это, возможно сегодня вместе с семьёй, я бы стал изгоем в какой-нибудь молодой европейской республике, или мыкался бы по съёмным углам без квартиры, доказывая своё российское гражданство. И получал бы я вообще российскую пенсию?.. Да мало ли, какие беды ещё могли свалиться на меня, не попадись на моём пути Казачкин?
Я убью тебя л – ик
Был у нас офицер по фамилии Любчик. И этот Любчик он над всеми шутил. Получалось у него весело. За это все любили с ним разговаривать, да и просто любили. Хотя секретарь парткома с пропагандистом как раз за это его не любили. Парткомовцы почитали себя выше всякого прочего окружения. В том числе они считали себя выше всевозможных юморин. На шутки в свой адрес они даже не обижались, они им скорее удивлялись и считали их недопустимыми. А Любчик шутил себе над парткомовцами так же как над всеми остальными и ни в какую не хотел признавать их «повышенность» над этими остальными.
Шутки над парткомовцами и вправду выходили у него какие-то обидные. По его выходило, что секретарь парткома бесполезная для полка личность, а пропагандист вообще дармоед, и если их из полка убрать, то никто этого даже не заметит. Пропагандиста, кстати, пропагандоном называл.
Про полкового комсомольца вообще стих сочинил:
Зубы железные, волос торчком,
Старый дурак с комсомольским значком.
Самое обидное, комсомолец этот именно так и выглядел. Парткомовцы в душе были очень озлобленные на Любчика, хотя существование самой души отвергали. Немало сил потратили секретарь парткома с пропагандистом (он же в парткоме – заместитель), чтобы доказать Любчику свою нужность и повышенность. А самого Любчика им хотелось прижать к ногтю. Выходило, правда, у них неважно. Да что там неважно? Плохо у них получалось.
Дело в том, что Любчик был командиром эскадрильи, т.е. самым, что ни на есть – лётным составом. А лётный состав, даже во времена повышенности партии над остальным населением, числился на особом счету. И трогать его просто так не было никакой возможности.
Если бы Любчик сильно пил, изменял Родине или на худой конец жене, тогда бы ещё что-то можно было придумать. Но Любчик пил не больше остальных, а у Родины с женой к нему претензий не было. Поэтому парткомовцам осталось только тихо затаиться и ждать когда Любчик где-нибудь оступится или чего-нибудь ему станет нужно от партии.
Многолетний партийный опыт подсказывал парткомовцам, что рано или поздно наступит время когда Любчику отольются «парткомовские слёзы». Повышенность-то у них на самом деле была. И опыт их не подвёл.
Выпало Любчику счастье поехать советником иностранного командования. То есть поехать в самую настоящую заграницу. Не в какую-нибудь там страну социалистического лагеря. А к арабам. То бишь к настоящим капиталистам. И жить там значит по их капиталистическим законам два года, и зарплату получать почти капиталистическую. Большего счастья для военных в то время не существовало, и Любчик уже было начал чувствовать себя счастливым по получении радостного известия. Но радость его оказалась преждевременной. Для беспрепятственного выезда за границу требовалось собрать много всяких справок, заключений и, самое главное, характеристик.
Пришлось, значит, Любчику идти в партком за характеристикой. Тут партком ему характеристику-то и написал. Не в смысле, конечно, «партии не предан и склонен к предательству». Нет. Но так: «недостаточно работает, не всегда правильно реагирует, критику воспринимает болезненно». А за границу таких, которые «не всегда, недостаточно и болезненно», в то время не посылали. Большая ответственность такого «не всегда» прямо в капиталистическое логово посылать. Вдруг он там Родину на красивую жизнь и дешёвые джинсы променяет. Кто тогда отвечать будет?
Взяли, короче, парткомовцы Любчика в оборот. Считай, накрылась его заграница. А значит не видать ему в военной жизни счастья.
Любчику бы повиниться, в ноги пасть, мол, бес попутал, простите православные, сам не знаю, что со мной. Водки с парткомовцами попить или лучше коньяку. А Любчик нет. Встал в позу, закусил удила. «Врёте, - говорит, - вы тут всё в своей характеристике. Не такой я как у вас здесь, а гораздо лучше». Но парткомовцев тоже сильно не испугаешь. «Партии, - говорят они, - виднее».
Разошёлся тогда Любчик: «Партия – это не вы, - закричал, и кулаком по столу. – Я сейчас партийное собрание в своей эскадрильи соберу. Вот там мы партию и послушаем. Приглашаю вас через полчаса на наше партийное собрание. И характеристику мою не забудьте захватить!» Сказал так и действительно пошёл неплановое партийное собрание собирать.
Закряхтели тут парткомовцы, стали задами на табуретках ёрзать. Понятно же, что эскадрилья своего командира не бросит. Выгораживать начнёт. И вообще нежелательным скандалом пахнуло. Не ожидали парткомовцы от Любчика такой «прыти».
На собрание, конечно, пошли. Вывернули там всё в другую сторону. Углы сгладили (это-то они как раз умели). Мол, и не собрание это вовсе. Это сами парткомовцы попросили Любчика коммунистов собрать, чтобы у них мнением о своём комэске поинтересоваться. Всё-таки человек в ответственную командировку собирается. А если мнение о нём хорошее и коллектив ему доверяет, значит всё в порядке. Значит, партком в нём не ошибся и выдаст ему хорошую характеристику.
Коллектив успокоился, разошёлся довольный. Характеристику партком Любчику исправил и тот уехал за границу. Только вот до сих пор есть сомнения, что Любчик парткому ту характеристику простил. Может это и не Любчик вовсе, но шибко дальнейшие события с его отъездом календарно совпадают.
Недели через две после отъезда Любчика появился в парткоме какой- то нехороший запах. Бывает, конечно, что в нашей жизни всякие запахи возникают. Но потом они, как правило, пропадают и о них забывают. А этот не пропал. Он даже с каждым днём сильнее стал делаться. Запах главное странный. Вроде как дерьмом несёт, только ещё хуже. Вначале про этот запах думали, что его случайно с улицы занесло или это откудато из-за стенки пахнет, но потом понятно стало – партком воняет.
Штатных специалистов по запахам в авиации не предусмотрено, благо нештатных хватает. В партком ежедневно много народу заходит и каждый по запахам – специалист-самородок. Каждый секретаря парткома консультировать стал и совет давать, как от запаха избавиться.


Вначале все говорили, что это мышь сдохла. Штаб одноэтажный, деревянный. Действительно под полом вполне могла сдохнуть мышь. Только в каком углу она сдохла, никак определить не получалось. Запах, он как бы не из определённого места шёл, а равномерно распределялся, по всему парткому. И к тому же день ото дня становился заметнее.
Вскоре все уже говорили, что это не мышь, что это крыса сдохла или ёжик. От мыши столько вони не бывает. Но запах и дальше продолжал усиливаться. Самое обидное, что над парткомом начали шутить теперь все поголовно. Шутки, конечно, были банальные: от шуток про то, что парткомовцы под себя «ходят», до шуток, что парткомовцы загнивать начали, но всё равно шутки неприятные и политически вредные.
Вскоре запах такой силы достиг, что стало ясно – под полом не меньше чем кролик сдох, а может вовсе коза или даже лошадь. В холодную осеннюю пору парткомовцы сидели на работе в шинелях с открытыми окнами. Стало ясно, что в парткоме пора вскрывать полы, хотя было не понятно, как лошадь сумела туда протиснуться. Разве если только в страстном порыве покончить с собою в коммунистическом подполье лошадь не решилась бы на подкоп.
В ближайший выходной день из парткома вынесли мебель и приступили к вскрытию пола. Выходной день выбрали не случайно. Сдохшую подпольную сущность парткомовцы решили засекретить, чтобы не давать повода для дальнейших шуток. Поэтому вход в штаб перекрыли от «случайных прохожих выходного дня» и два «надёжных» прапорщика приступили к отрыванию досок.
Оторвав последнюю доску, под полом к удивлению ни одного отважного подпольщика не обнаружили. Ни лошади, ни ёжика, ни даже мыши. Под полом оказалась чистая, сухая земля, которая вообще никак не пахла. Запашина же при этом в помещении парткома оставался нестерпимым.
В парткоме уже не осталось ни столов, ни шкафов, ни тумбочек. Там даже полов не было. Только на стенах висели портреты вождей в больших деревянных окладах. Секретарь парткома долго смотрел на них, потом подойдя к портрету Ленина, в смутной догадке засунул за него руку. Догадка начала обретать вполне материальные формы. Сначала пальцы упёрлись во что-то твёрдое, но потом оно легонько хрустнуло и из-под Ленина потёк крайне вонючий ручеёк. Секретарь вынул руку, осмотрел и понюхал её. Да, внешний вид и запах пальцев вне всяких сомнений указывал, что они побывали в протухшем яйце.
Дальнейший осмотр показал, что за каждым портретом оказалось спрятано по одному или по два куриных яйца заблаговременно проколотых иголкой. Они протухали очень постепенно, день ото дня усиливая колорит. И главное никому в голову не пришло, что это от вождей может так переть. В запахе обвинили мышей, ёжиков и даже лошадей, но кто бы осмелился подозревать вождей в чём-то протухшем?
Было ясно, что партком уже никогда в жизни не «отмоется» от этого запаха. При этом следует посчитать недели мучений, насмешек и вскрытие полов...
С улицы странно и неожиданно было наблюдать, как секретарь парткома полка, почти интеллигентный человек (жена врач, между прочим) стоя возле окна парткома, не обращая внимания на проходящих мимо солдат, орал в небо нечеловеческим голосом:
Я УБЬЮ ТЕБЯ ЛЮБЧИК!!!

Аронов
Прилетели мы в Чирчик. Стали практиковаться в бомбометании с боль- ших высот. Потому как у духов противовоздушные ракетные комплексы маловысотные, то наше преимущество – высота. А с большой высоты попасть в цель труднее. Требует дополнительного обучения.
Растянулось это обучение как сопли. То погоды нет, то выходные, то теория. Сидим в казарме. Никуда не выпускают. Скукотища. Зато картёжникам заядлым – раздолье. Закрылись они в каптёрке вчетвером. На окно солдатское одеяло повесили и дуются в преферанс «по копеечке». Время для них остановилось. День и ночь перепутались. Нас молодых в столовую за котлетами пошлют и дальше в карты дуются.
Не просто сидят, конечно, спиртик понужают. Отдых душе и телу. День просидели, ночь просидели, ещё день просидели на вторую ночь пошли. Ни одного перерыва не сделали. И стал под утро Олег Аронов слегка кунять. Старенький он уже, под сорок. Морит его сон и всё тут. Ход сделает и сидит с закрытыми глазами. Его спрашивают: «Ты чего, старый?» А он: «Нет, нормально». Дальше ход сделает, опять с закрытыми глазами сидит. То ли спит, то ли думает, не понятно? Всю лепоту мужикам портит. Уснёт сейчас страдалец, как без четвёртого в «преф гонять»? А у кого то, может фарт только покатил. Смотрят все на него уже озлобленно. А ему, что? У него глаза закрыты.
Терпели мужики, терпели. Осерчали. И задумали злодейство против Аронова учинить. Перемигнулись и начали всякие страшные истории про спирт рассказывать. Мол, спирт, он на все органы плохо влияет. А на глаза особенно. Страшно подумать какой спирт для глаз вредный. И помнится, случай был, как один мужик от спирта ослеп. Да, что там один, таких случаев море. И в том полку от спирта ослепли, и в том. Регулярно народ от спирта слепнет. И прямо фамилии называют. И чуть ли не сами вместе с этими ослепшими спирт пили и по больницам их возили. Только медицина здесь бессильна оказывается. Так все слепые и ходят. А сами спиртик Аронову подливают, и пригубливать заставляют.
Аронов, должно быть, слышит всё. Вроде с закрытыми глазами сидит, но когда открывает, ходит правильно, в ситуации ориентируется и к стакану прикладывается.
Так они порассказывали с полчаса, страху понапустили, а когда Олег носом очередной раз клюнул, они свет то и выключили. Окно солдатским одеялом закрыто, ночь на дворе. Темнотища полная. Действительно, хоть глаз коли. И как ни в чём не бывало, дальше разговор ведут. Тут, мол, даму пик бьём, а здесь бубями бы неплохо. И толкают Олега: «Ну ты что, старый уснул? Ходи, давай».
Открыл Олег Леонтьевич глаза и поначалу не понял, что происходит. Ушами он слышит, что игра продолжается, люди карты обсуждают, ходы делают, а глазами ничего не видит. Даже мутных силуэтов разглядеть не может. Пялился он, пялился во все стороны. Тужился хоть, что-то разглядеть. Моргал усиленно. Тут-то, жуткие рассказы про слепоту своё дело и сделали. Получился у Олега удар по нервам. Как заорёт он страшным голосом:
- Мужики! Не вижу ничего! Ослеп!
Те хотели шутку дальше потянуть, но не выдержали, заржали. Включили свет и долго Аронова уговаривали, чтобы драться не лез. На этом у них игра закончилась. Так как больше Олег Леонтьевич с ними играть не захотел.

Очередные звания
Перед отправкой в Афганистан я попал в Ширакский полк. Это оказался очень хитрый полк. Не каждому доводилось служить в таких полках. Этот полк кроме обычного штата имел «второй комплект».
Суть в том, что продавая самолёты за границу, в основном в страны Азии, Советский Союз также поставлял туда инструкторов для оказания помощи в освоении новой техники. Именно с этой целью в некоторых полках предусматривались «лишние» должности сверх штата. Если возникала необходимость отправить инструктора за границу, то человек убывал туда, никак не влияя своим убытием на повседневную размеренную работу.
В Ширакском полку таких должностей было четыре: командир эскадрильи, заместитель командира эскадрильи и два командира звена. Проще говоря, в полку имелись лишние должности подполковника, майора и двух капитанов.
Это было огромное подспорье для получения воинских званий. Сейчас звания обесценились. Можно запросто встретить тридцатилетних подполковников в милиции или двадцатипятилетних полковников в таможне. А в то время воинское звание высоко ценилось, и получить его было не так просто. Зачастую лётчики, не говоря уже о техниках «перехаживали» в ожидании очередного звания по многу лет.
В Ширакском полку «лазейка» со вторым комплектом позволила многим получить звание своевременно. Но, как известно, судьба поворачивается в разное время разными местами. На мне «халява» заканчивалась. Поскольку полк убывал в Афганистан, т.е. «за границу» с него «сняли» второй комплект. «Лишних» комэска, замкомэска и т.д. теперь необходимо было «всовывать» в обычный полковой штат. Понятно, что этого невозможно было сделать без служебных понижений.
Думаю нетрудно представить состояние людей, которых мало того, что отправляют на войну, ещё и понижают для этого в должности. Понижение в должности обычно использовалось, как крайняя мера наказания за чрезвычайные проступки или преступления. Здесь же понижение производилось в рабочем порядке, так сказать, с бытовой повседневностью.
Чтобы как-то сгладить неприятные ощущения от проделываемой процедуры, понижаемым в должностях командование полка попыталось компенсировать настроение воинскими званиями. В цепочку понижений постарались включить тех, у кого подходил срок получения очередного звания. Офицеру отправляли документы на присвоение очередного звания, а только после этого понижали его в должности.
Также отправили документы на присвоение званий техническому составу, у кого срок нахождения в старом звании превышал двойную норму. Это разрешалось законодательством, но не поощрялось на практике. Тем не менее, командование полка взяло на себя ответственность за такой шаг.
Всего из полка таких, кому отправили «на звание» набралось сорок человек. Послали документы на присвоение звания «капитан» и мне. После чего понизили до самого дна, то бишь до должности «лётчика». Ниже «лётчика» уже ничего не существовало. Именно в этой должности я и отправился выполнять интернациональный долг в составе ограниченного контингента Советских войск. Но я не расстроился. Мысль о том, что скоро буду капитаном, грела мою душу сильнее, чем белое солнце пустыни. А должность – дело наживное.
По прошествии нескольких месяцев, уже в Афганистане, радостная весть о званиях в виде Кольки Кругликова озарила окружающий пейзаж. Мужики поехали на аэродром встречать, якобы, какое-то начальство. Начальство оказалось не ахти какое. Коля работал помощником началь- ника штаба полка по учёту личного состава. Хотя, всё же считай – представитель управления.
Коля прибыл из Шинданта, где базировалось управление полка. Если сказать, что Коля прибыл в непотребном виде – значит ничего не сказать. Прибыл он окончательно пьяным. Кстати, так и не выяснили: он таким сел в транспорт в Шинданте или это случилось с ним уже в самолёте. В дверном проёме он появился за мгновение до полного отказа памяти, речевого и опорно-двигательного аппаратов. Коля успел вымолвить только:
- Документы со званиями пришли…
После чего выпал на руки товарищей, и захрапел в воздухе, ещё падая. Но, собственно, никто в претензии не оказался. За такую весть Колю торжественно донесли до койки и уложили со всеми почестями. Известие моментально облетело весь личный состав, тут же перейдя в торжества по случаю услышанного.
А я на следующий день собирался в отпуск в Союз. Весть о присвоении звания «капитан» превратило моё отпускное настроение в сплошной праздник. День рождения не доставлял мне столько радости, как эти два события, совпавшие по времени.
А нас ведь, которые ожидали звания было много. Сразу столько присвоений в одном месте – случай, конечно, неординарный. Народ гулял самозабвенно, отчаянно, на последние и без сдачи. На фоне нашего празднования померкли Новый год и 9-е мая. Поздравления сыпались сверху, с боков и с низу. Люди тискали друг друга, целовались, хлопали по плечам и безудержно ржали.
Один только командир эскадрильи нервно жал плечами и качал головой:
- Надо бы документов дождаться. Без документов – непорядок. Документы ему подавай. Никуда без бумажек. Сам же своим под-
чинённым характеристики подписывал, а теперь: «Непорядок!» Бюрократ, понимаешь!
Я тоже обходил всех. Поздравлял «именинников» и принимал поздравления в свой адрес. Зашёл так же к моему другу Аркадию Журавскому, технику звена. Но Аркадий – человек особенный. Он никогда не поддавался общим эмоциям. Встретил меня спокойно и глубокомысленно:
- У вас лётчиков сроки между званиями короткие, как мышиные хвосты. К тому же вы всегда получаете звания вовремя. А чтобы технику дождаться звания – лучше об этом и не мечтать.
- …!
- Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь: «Кто на что учился». Когда я учился, меня не интересовали такие мелочи. Но я кончил учиться и теперь интересуюсь. Мне уже четвёртый десяток. Моя голова седеет. Скоро она будет отсвечивать, как дюраль, а я только теперь стал капитаном. Советская власть позаботилась, чтобы я стал капитаном, только потому что отправила меня в Афганистан. Те кого она не отправила в Афганистан, так и останутся старшими лейтенантами. Получается, я живу немножко лучше остальных, спасибо советской власти.
- Аркадий, - перебил я его, - у тебя поразительная способность встречать горе и радость в одном настроении.
- Наоборот, я очень радуюсь, когда приходит радость, и очень огорчаюсь, когда приходит горе. Но когда приходит горе, радость никогда этому не мешает, когда же приходит радость, то всегда находится что-нибудь ещё кроме радости. Я восемь лет ходил старшим лейтенантом. С кем я получил старшего лейтенанта уже давно майоры. Получается, у одних жизнь движется вперёд, а у других просто приближается к старости.
- Хватит! – закричал я. – Прекрати Аркадий. Я поздравляю тебя с капитаном, и желаю, чтобы ты стал майором! Причём вовремя.
- Нашёл что пожелать, - горько вздохнул Аркадий, и опрокинул свою стопку.
Я убыл в отпуск с некоторым сожалением. Разгар веселья только встречал зарю. Понятно, что радость не утихнет целую неделю. В отпуске я вовсю красовался новыми погонами перед родственниками, друзьями, соседями. Меня дружно поздравляли, иногда даже не скрывая зависти. В общем у каждого человека есть счастливые моменты в жизни. Почему их не должно быть у меня?
Отгуляв, как положено, вобрав в себя все возможные радости от отпуска, я вновь прибыл, как говорится, на родную землю, то бишь в Афганистан. Стоит ли доказывать, что момент отправления в отпуск всегда намного приятнее момента возвращения на работу. В Кандагаре я слез с транспортного самолёта с выражением на лице неизбежности и покорности судьбе. Признаться, я думал, что встреча с моими товарищами сгладит унылое настроение, но вышло наоборот.
Глянув на мои капитанские погоны, они кисло протянули:
- А-а, так ты с последней партией звание получал?
Какая последняя, и при чём тут партия? Человек вернулся из отпуска, и представлял себе, что ему обрадуются. Какая к чёрту партия? Я потребовал объяснений.
- Вон иди к Кольке Кругликову и требуй свои объяснения, - вместо ответа сообщили мне.
Конечно, я немедленно пошёл к Кольке.
- Да отстаньте вы от меня уже, - вместо «здравствуйте» сказал
Кругликов. – Я сказал, что документы со званиями вернулись назад, а вы всё перепутали.
- Как вернулись? – не понял я. – Ты же сказал пришли.
- Пришли, вернулись – какая разница. Чего к словам цепляться, - отреагировал Колька.
- Так пришли или вернулись? – снова не понял я.
- Я уже сто раз всем объяснял, - занервничал Колька, - принесли наши документы командующему Закавказским округом Архипову на подпись. Он на номер части глянул и говорит: «Это которые в Афганистан уехали? На х… они мне теперь нужны? Они теперь в Туркестанском округе, вот пусть там им звания и присваивают». И всю нашу пачку документов со стола скинул.
Если бы меня сейчас неожиданно стукнули кувалдой по голове – это наверное не произвело бы на меня такого удручающего впечатления. Оказалось, всё фикция. На самом деле документы вернулись неподписанными. Даже для армии скотство редкостное. Получилось все поздравления, похлопывания – всего лишь театр абсурда. Причём остальные «именинники» довольно быстро узнали, что это бред, а я целый отпуск проходил в неведении существа дела.
Я обходил комнаты тех, с кем недавно радовался присвоению званий. С вешаpл ок на меня глядели дыры из погон от звёздочек, вырванных с корнем. Люди с такой злостью вытаскивали уже лишние звёздочки, что дыры получались, как лунные кратеры. Из этих огромных дыр выглядывала обида, злоба и несправедливость, а по краям дыбилась бахрома из ниток разной длины.
Когда я выдрал лишние звёздочки из своих погон, мои дыры получились точно такие же, как у всех. Раньше я думал, что у меня большое сердце, и я способен простить весь мир. Но нет. Добрым приятно быть за чужой счёт, когда тебя лично не касается… Вот коснулось – оказалось, что я обычный, мелочный человек. Мир сузился для меня до размеров этих маленьких неровных дырочек. Никакого смиренного всепрощения в моей душе не обнаружилось. Там жила только обида и желание набить морду, тому, кто мне всё это устроил. Бывают в жизни моменты, когда наше истинное лицо непроизвольно выползает из-под маски повседневности.
Я отправился к своему другу Журавскому. Его глубинный взгляд на окружающие обстоятельства был сейчас просто необходим.
- Аркадий, - сказал я, - я пришёл вспомнить счастливое время, когда мы с тобой были капитанами.
- Да, это было счастливое время, - вздохнул Аркадий.
- Мы радовались как дети, - тоже вздохнул я.
- Как дети, - подтвердил Аркадий.
- Но теперь я вижу ты совсем не радуешься? – спросил я.
- Да, - подтвердил Аркадий, - с тех самых пор у меня настроение как у Гитлера в мае сорок пятого. Через такие вещи запросто можно получить истерику.
- По-твоему у остальных сердце твёрдое, как камень, или что? - успокоил я Аркадия. - Не только по тебе судьба каталась на тракторе.
- Ты предлагаешь смотреть на это сквозь пальцы?
- А что мы ещё сможем сделать?
- Но ведь кто-то же устроил нам это настроение?
- Почему кто-то? Прекрасно известно кто – командующий Закавказским округом Архипов. Ты предлагаешь пойти и плюнуть в мурло этому уроду?
- Ни в коем случае. Брось этих глупостей. Командующим нельзя плевать в мурло. Зато мы можем ему что-нибудь пожелать. Это не много, но всё-таки.
- Тогда давай чего-нибудь этому мурлу пожелаем.
И мы пожелали генерал-полковнику Архипову, чтобы он больше никогда не получил ни одного воинского звания. На душе стало легче.
Как показала практика, цыганки из нас с Аркадием вышли никудышные. Архипов совсем скоро стал заместителем министра обороны и получил звание генерала армии. Недолго просидев в должности командующего ЗАКВО – он просто отбывал номер.
Сегодня порой можно услышать, мол, сейчас скотство одно, а раньше вот всё было прекрасно. Не верьте. Скотства и раньше было не меньше. В этом вопросе завсегда обилие было и достаток, а вот дефицита никогда не наблюдалось.
Айсберг
Жизнь в Афганистане, надо признаться, была довольно однообразной. По сути, кроме походов в столовую и боевых вылетов день заполнить было нечем. Бестолкового повышения идейного уровня там никто не требовал. Возрастания теоретических знаний матчасти не организовывал. Разборов полётов с оргвыводами не устраивал. Даже построений почти не проводили. В периоды «завоза» технического спирта гарнизон на неделю превращался в царство белых мух, но потом снова всё возвращалось на «круги своя».
Тут-то до меня и дошла весть, что при клубе собирается новый состав вокально-инструментального ансамбля. Вообще-то в гарнизоне их было уже несколько, но в виду того, что аппаратура могла использовать- ся круглосуточно, ещё один ансамбль вполне мог функционировать. Поскольку я имел опыт публичных выступлений со сцены, то с радостью отправился навязывать свою кандидатуру и культурно приобщаться к общественной жизни.
Музыкальная аппаратура, надо признать, была отменная. В Советском Союзе существовала установка, чтобы за границу отправлять только лучшее. Дабы заграничные жители воочию убеждались насколько советские люди богато живут. Поэтому с аппаратурой нам однозначно повезло.
В состав нового творческого коллектива меня приняли без испытательного срока. Поскольку виртуозов там не было ни одного, моя кандидатура пришлась в самый раз. Мы приступили к репетициям.
Остальные ребята подобрались из вертолётного полка, и мы вполне сносно умудрялись репетировать в перерывах между напряжённой боевой работой.
В один прекрасный день нас почтил присутствием замполит гарнизона вместе с председателем партийной комиссии. Они сообщили, что побывали на репетициях остальных творческих коллективов, и им бросилось в глаза полное отсутствие женщин. А на праздновании «Дня Советской армии и военно-морского флота» хотелось бы порадовать суровые мужские сердца приятным женским голосом. К тому же ожидалась представительная делегация афганских товарищей, то бишь заграничных представителей. Мы вполне согласились, что вдали от Родины мужские голоса уже порядком надоели, но где искать певицу женского рода мы не представляли.
Парторг, вытянувшись перед замполитом в струнку заверил, что лично изыщет необходимую женщину, раз мы согласны. И в самом деле нашёл.
Уж не знаем, каким образом он производил отбор, но официантка, которую он привёл, вполне обладала слухом и почти голосом. Девушку звали Наталья. Ей исполнилось двадцать лет. Она была очень высокая, под 190, и при этом крупная. Кровь с молоком. Таких за глаза называют «доярками». Действительно каждая грудь у Наташи была размером с ведро, но при этом у неё были приятные черты лица, и выглядела она удивительно мило.
Как потом выяснилось, Наташа оказалась крайне стеснительной. Всех поначалу звала на «вы», хотя в Афганистане бытовали упрощённые отношения, а мы были не намного старше её по возрасту.
Наташа созналась, что с детства втайне мечтала стать певицей, но в сельской школе, где она училась, проявить себя никакой возможности не было. Сказала, что больше всего ей нравится, как поёт Алла Пугачёва, и она помнит весь её репертуар наизусть. После недолгих обсуждений мы решили, что Наташа начнёт наше выступление с песни про «Айсберг», а потом ещё две, и окунулись в репетиции.
Через две недели наступил наш профессиональный праздник – 23 февраля, в который мы и должны были добиться всеобщего удивления личного состава «приятным женским голосом». У большой брезентовой палатки, именуемой «клубом», подняли боковины. Народ со своими табуретами облепил её с боков, насколько хватало глаз. Собрался весь гарнизон.
В передних рядах восседал начальник гарнизона полковник Горшков с командирами частей. Рядом с Горшковым пристроились замполит гарнизона и парторг. Они строго зыркали по сторонам, поскольку были ответственными за проведение торжественного мероприятия с элементами концертной программы. Рядом с ними посадили приглашённых иностранных товарищей – начальника афганского гарнизона с группой офицеров. Кстати, в отличие от нас они были одеты в кителя с погонами.
Мероприятие проходило очень торжественно. С короткой речью выступал очередной командир части. Затем вручались награды, специаль- но «придержанные» для этого дня. За награждением следовали два-три номера художественной самодеятельности. После чего выходил следующий командир части.
Но это всё после. А вначале-то мы Наталью дождаться не могли. Сидим в пустой комнате для аппаратуры, народ к клубу тянется, вот-вот начало произойдёт, а Натальи нет. Понятное дело нервничаем маленько. Выглянули из комнаты наружу, а она вот. Стоит недалече.
Майка на ней новая, белоснежная. Вырез на майке такой, что туда двое поместятся. Голова завитая вся. Ни дать, ни взять артистка. Только бледненькая она какая-то и челюсть у неё почему-то не захлопнутая.
Мы ей махать: греби сюда быстрее! Мол, чего встала, и так опаздываем. Она вроде пошла в нашу сторону, только смотрит как-то сквозь. Встретили мы её. Мать честная! Да на ней лица нет.
Усадили её на табуретку, а сами не знаем, что делать. Сидит Наталья, как мумия фараонская, не шелохнётся. Худрук у ней руками возле носа поводил, пальцами пощёлкал.
- Всё ясно, - говорит, - синдром перворазника. Как она толпу народа узрела, перед которой петь полагается, так и обомлела вся.
Вот незадача выходит. Мы то на такое её состояние не рассчитывали.
- Сколько же она так просидит, сердешная, - спрашиваем.
- А пёс её знает, - отвечает худрук, - я не фельдшер. Может она так до вечера сидеть будет.

- Как же до вечера, - удивляемся, - когда у нас выступление на носу?
- Выступление – это да, - говорит худрук, - если срочных мер не принять, плакало наше выступление.
Я кричу:
- Что же мы тут срочное предпримем, когда времени нет? Тут, стало быть, без ста грамм никакие меры не помогут.
- Ты эти привычки кабацкие брось, - отвечает мне худрук, - её просто в чувства нужно привести. Может её всего-то ущипнуть требуется?
Ущипнуть все сразу согласились. Ущипнуть Наталью – это всем понравилось. Только худрук кричит:
- А ну брысь все по углам! Я её сам щипать буду.
И ущипнул легонько за бок. Наталья вроде дёрнулась, но дальше безмолвствует. В одну точку смотрит. Худрук ещё разок щипнул, а Наталья на второй раз вообще никак.
- Нет, - говорит худрук, - щипанием тут не поможешь. Тут, что-нибудь другое требуется. Может ей таблетка какая поможет?
- Есть у меня таблетка, - нашёлся один, - «левомицетин». Только, кажись, она для живота.
- Нет, - отвечает худрук, - тут не для живота надо. Тут другую.
- Так какую, скажи, - возмущаемся, - чего зря кота за хвост тянуть?
- Я вам ветеринар, что ли, все таблетки наизусть помнить? – тоже возмущается худрук.
- Где мы сейчас таблетки искать побежим, - урезониваю я их, - особенно даже если названия не знаем? Или того хуже снотворное ей найдём. Вот тогда концерт выйдет. Одна умора получится. Грамм пятьдесят ей влить, и всё как рукой снимет.
- Мы,- говорит худрук, - все за наше общее дело болеть должны, а у тебя только сто грамм на уме.
- А я, - говорю, - за что болею? Как раз за это самое общее дело. И мне как болеющему человеку довольно обидно подобные намёки выслушивать.
- Ладно, - тогда говорит худрук, - может ты и прав. Видно ничего умнее ста грамм мы сейчас не придумаем. Психотерапевты у нас кругами не шастают. Давайте сто грамм искать.
Скинулись мы по пятнадцать чеков. С дамы же не будешь собирать, тем более с такой молчаливой, и послали самого молодого спирт искать. Молодой молодцом оказался. Бутылку спирта быстро нашёл. Хотя на то он и молодой – закуски поискать не додумался. Но уже не до сантиментов.
Развели мы спирт и стали в Наталью заливать. А она вроде истукан
– истуканом, но головой вертит. Отворачивается. Аппетиту у неё стало быть нет. Со своими бабами поди враз махнула бы и только крякнула, а тут видите ли на диете.
- Открывай Наталья рот, - нервничаем, - хватит нам уже настроение портить. Ты нам свою моду на круглые глаза бросай!
Влили с горем пополам стопку. Измучились. Сидим, ждём. Вроде подействовало. Как бы румянец у неё проступил, и рот открывать начала. Но рот открывает, а по-прежнему ничего не произносит. Такие картины в аквариумах наблюдать можно. Я говорю:
- Ещё ей надо влить. Ей одна стопка – что слонихе дробина.
- Хватит, - кричит на меня худрук, - ты своими безобразиями до греха доведёшь! Ждать нужно.

- Жди, - отвечаю. – Нам на сцену скоро, а от неё звуков нет. Тебе надо, чтобы она как рыба пела или как Алла Пугачёва? Видишь на «слониху» совсем не обижается.
Худрук затылок почесал.
- Нет, - говорит, - рыбьи песни нам ни к чему. Давай ещё стопку ей внутрь пропихивать.
Вторую легче пропихнули. Наталья, видать, уже в человека превращаться начала. А скоро вообще заговорила. Только то, что она сказала нас не обрадовало. Её слова нам заместо серпа по ногам пришлись.
- Я, - говорит, - раньше не думала, что так страшно много народу перед собой видеть. Выйти к ним со страху я никак не могу. Поэтому от карьеры певицы отказываюсь и, вообще, я домой пошла.
Вот, значит, как она нам заявила. Мы тут репетировали две недели, по пятнадцать чеков скидывались, а она домой. Не на шутку нас такое заявление тронуло. Рассердило нас такое обращение. Не глядя на рыцарское отношение к дамам, что-то у нас в глазах очевидно засверкало. Наталья это заметила и поёжилась.
Худрук руки вскинул:
- Стоять всем по своим местам!
Махнул нам, чтобы не подходили и к Наталье присел. Что он ей там плёл мы не слушали. Но сумел он по-доброму, ласково её убедить.
- Ладно, - говорит Наталья, - буду петь. Раз уж две недели репетировали.
И улыбнулась первый раз. Мы, конечно, тоже заулыбались. Не зря, значит, две недели репетировали. Добили на радостях початую бутылку. И Наталье наравне наливали, только видно это было зря.
Перед самым выходом на сцену Наталья совсем раскрепостилась и начала тихонько хихикать сама с собой. Когда пришло время подниматься со стула оказалось, что её мотает как матроса во время шторма. Совсем не крепкая она оказалась, да ещё без закуси. Мы, конечно, от неожиданности удивились, но что делать. Уже пришла пора к сцене выдвигаться.
До сцены Наталью довели в общем-то без приключений, но подой- дя к ступенькам, столкнулись с препятствием: пытаясь поднять ногу на ступеньку Наталья начинала заваливаться назад.
- Дурной знак! – Не к месту прошипел руководитель.
С третьего раза нам вчетвером удалось вытолкать Наташу на сцену. Взобравшись, Наталья мощно вклинилась корпусом в аппаратуру.
Пытаясь сдержать качку, она хваталась за микрофоны и тарелки, как за трамвайные поручни, но те сами еле держались. Сцена-то была малюсенькая. Её же не для того делали. Сцену из бомботары сколотили, чтобы на ней могла поместиться трибуна и стол покрытый красным кумачом. Сцена предназначалась для партийного президиума в пять человек.
«Изготовители» на вокально-инструментальный ансамбль не рассчитывали, хотя, конечно, трезвые исполнители, выступающие до нас, на ней вполне помещались.
Постороннего шума и фона от Наташи произошло много. Мы, конечно, как могли её с боков поддерживали, только разве тут удержишь?
Сыграли мы вступление. Наташа запела. Вроде в ноты попадает, только поёт тиховато, и штормит её при этом сильно. Глядим, праздничного настроения у нашего руководства как не бывало. Командир серым стал, замполит красным, а парторг побелел. Вот и весели тут народ, когда перед тобой три таких лица расположено.
Хорошо Наташа в должностях не разбирается. Ей что командир полка, что командир экипажа – все на одно лицо. Поёт и руками себе помогает. Дошла до слов «А ты такой холодный, как айсберг в океане», решила рукой айсберг показать – какой он большой, да неудачно. Чуть в барабаны не зарухала. Мы её на гитарных грифах еле удержали. Благо сцена небольшая. Раскачивается над ней Наталья в своей белой майке соответствующего размера. Ну точно айсберг над волнами.
Начальство всё сильней злостью наливается. А афганские товарищи ничего. Шеи вытянули, улыбаются. Естественно, они такого отродясь не видели. У них женщины без паранджи не ходят и со сцены с таким декольте не поют. Тут у Наташи новая майка из джинсов неприлично выбилась. Так они вообще просияли и хлопать начали как оглошенные.
Наташа видит – успех налицо. Задние ряды, хоть от хохота валяются, а большой палец показывают «Во!». Мол, давай, подруга! Наташа приободрилась, стесняться перестала. Нас оттолкнула и уже во весь голос запела. Стала пытаться в такт музыке пританцовывать, руками вовсю размахивать. Бюст её огромный за ней не поспевает. Того и гляди из декольте выскочит. Задние ряды одобрительно реветь начали, а афганские товарищи хлопают ладоней не жалея. Замполит с парторгом к ним повернулись, улыбаются натянуто, хотя по всему видно, что скамейки им раскалёнными сковородками кажутся. Один начальник гарнизона сидит с каменным лицом и не шевелится.
Допела Наташа песню, а что делать дальше, не знаем. У нас ведь ещё две по плану. Вроде как нужно продолжать. Народ рукоплещет с восторгом, но при этом ржёт неимоверно. Собрались мы следующую песню объявлять. Глядим, замполит с парторгом нам тайные знаки подают, причём, чтобы афганские товарищи не заметили. Мол, убирайтесь к чёртовой матери и певицу свою забирайте!
Пришлось выступление закончить и зрителям поклониться. Наташу придержали, чтобы она, когда кланялась, в зал не нырнула. Так под аплодисменты и сошли со сцены.
Довели Наталью обратно в комнату. Там уже её подруги принимать ждут. И зло так на нас смотрят. Худрук на меня тоже злой косится:
- Это всё из-за твоей идеи со ста граммами.
Нормально! Как Наталье в глотку заливать, так все вместе. А как виноват, так я один. Да хоть бы и моя идея? Я для кого старался? Я же за общее дело радел! Музыканта может обидеть каждый. И ещё вопрос, что здесь хуже? Может без моей идеи мы бы вообще на сцену не попали? Я может всё положение спас? А теперь вот чёрную неблагодарность слушаю.
Досмотрел я праздничный концерт уже в общем «зале». И скажу честно, никакому выступлению народ больше чем нашему не радовался. Ну и что, что немного необычно вышло?
Начал после концерта народ расходиться. Смотрю, вся моя комната не спеша домой бредёт. Я к ним. А они шаг прибавляют и шипят на меня:
- Ты к нам не подходи. А то подумают ещё, что мы с тобой знакомые.
Нам такой позор ни к чему.
Блин! Да что сегодня за день такой? Кругом все меня виноватым считают. Не понять им, что в искусстве иногда случаются жертвы. Оно этого требует.
Больше ни в одном праздничном мероприятии наш вокально-инструментальный ансамбль к участию не допускали. А Наташу после этого выступления весь гарнизон стал называть «Айсбергом».

Особенности военной психологии
Каждому, небось, приходилось слыхать, что в армии всё не как у людей. Мол, круглое там носят, а квадратное катают. Во флоте заставляют молодёжь якоря напильниками точить и макароны от долгоносиков продувать. В других местах траву в зелёный цвет красить или ещё чего-нибудь. Отчасти может оно и верно, но, если, в общем брать, так во всякой работе свои особенности имеются. Везде люди обитают, а у каждого человека психология по-своему прикладывается.
Ожидал как-то Кандагарский авиационный гарнизон проверку. Да такую грандиозную, что всем проверкам проверка. Только саженцев целый Ан-12 привезли. Начальник гарнизона полковник Горшков весь гарнизон построил, чего обычно не случалось. Стращал всех нещадно. Воздух ладонью рубил.
- Порядок кругом идеальный навести, - указывает, - всё выкрасить, выбелить, подмести, убрать, выровнять, засыпать и натянуть. А фильм сегодняшний я отменяю. Это чтоб об отдыхе никто не помышлял, и на удовольствия не рассчитывал.
Фильмы, надо сказать, в Кандагаре ежедневно крутили. Может, конечно, не заграничные, больше наши, проверенные. Но фильмов не жалели. Заботу проявляли. Это уж, что было – то спасибо.
Но раз такая проверка прибывает, то фильм начальник отменил. Фильм обычно с темнотой крутить начинали. А тут, значит, чтоб и в темноту порядком занимались. Большую проверку стало быть начальник ждал. Вот такая психология получается.
Приступили мы к порядку. Солдатам общественную территорию поделили, а офицерам с прапорщиками возле своего жилья наметили. Поскольку травы там не росло, то красить её не красили. И поскольку снега не было, то в проталинах не белили. А перво-наперво стали саженцы завезённые сажать. Выкапывали в глине ямку, так, чтобы корень поместился, и снова глиной присыпали.
В глине, понятно, даже сорняки не выживают, но нам саженцы на пару дней. Комиссия глянет – саженцы кругом и скажет:
- Хорошо воюете, товарищи! Такая вот у комиссий психология.
Также рвы и щели примодульные восстановить требовалось. Это на случай миномётного обстрела, чтоб было где прятаться. Чтоб выбегать, значит, во время обстрела и по щелям рассаживаться.
Только не пользовались мы этими щелями. Хотя обстрелы случались часто. Лежит гарнизон ночью по койкам и слушает. Если мина свистит, значит, с перелётом пошла, чего уже зря бегать, а если не свистит, то не свистит.
Неохота никому было из койки посреди ночи выскакивать и в щель специальную забиваться. Такая вот у советских людей психология была. Ждали все – если при обстреле кого убьёт, то непременно начали бы по щелям прятаться. А поскольку никого ни разу не убило – чего же из койки среди ночи вылазить?

Надо сказать, тут и душманская психология отчасти виновата. Душманы всё больше по взлётной полосе старались попасть. И попадали. Правда, толку от этого никакого. Инжбат с утра бетоном дыры позаливает – полоса готова. Самолёты опять взлетают, как ни в чём не бывало. Но духи на следующую ночь опять по полосе удар готовят. Что с них взять? Психология.
Позасыпало со временем у нас эти щели от невостребованности. Пылью позаваливало. Стали мы эту пыль носилками доставать и стенки у ходов сообщений выравнивать. Ну и, конечно, всё остальное тоже красить, белить, натягивать. В общем по науке, как учили.
А модуль наш, в котором мы проживали, был особенный. Он рядом со столовой стоял. И стенка модуля, которая на столовую, как бы афишей получалась. На ней начальник клуба название фильмов вывешивал. Понятно, афиша не настоящая. Просто на листе ватмана широким пером название писали и к нам на стенку кнопками приделывали. Народ, когда в столовую ужинать шёл, завсегда название фильма видел, и от названия уже думал идти ему сегодня в кино или нет?
Но на сегодня начальник гарнизона фильм-то отменил, стало быть, читать название на стенке ни к чему. А вчерашнее название начальник клуба по лености не убрал. Он вчерашнее убирал, когда новое вешал. А раз новое вешать не требовалось, так вчерашнее висеть и осталось.
И вот потянулся народ в столовую на ужин. Ужинать в несколько приёмов приходилось. Столовая небольшая, а народу – целый гарнизон. Вот и выкручивались. Идёт, значит, народ в столовую. Ну и шёл бы себе. Нет. Обязательно налево глянуть нужно, где афиша висит, и эту афишу прочитать.
А читает, оказалось, человек не так, как я раньше думал – глянул и прочитал. Не так. Человек читать-то читает, а обдумывает, что прочитал он, оказывается позже. Идёт он себе в столовую, глядь налево, прочитал. Потом отворачивается и дальше идёт. А потом только до него доходит, что он на самом деле прочитал. Он тогда опять голову к афише поворачивает и разочарованно тянет:
- А-а-а, так это вчерашнее.
А чего же ты ждал, родной? Начальник русским языком приказал:
«Кина не будет!» Нет. Всё равно афишу почитать требуется. Психология, твою дивизию! Никуда от неё не денешься. Мы возле модуля подметаем и за картиной этой приглядываем. Надоело мне. Взял я и кверх ногами афишу перевернул.
Начал народ себя по-другому вести. Глянут, отворачиваются. Опять смотрят. Останавливаются. Думают, и потом только говорят:
- А-а-а, да она кверх ногами висит.
Начал нас смех потихоньку разбирать. Надо же, как у людей мозги медленно работают. Мы вроде как в театр попали, а перед нами артисты одну и ту же сцену повторяют. Возник у нас к подобной сцене неподдельный интерес.
- Давайте, - предлагаю, - им задачу усложним.
Все соглашаются. С метёлками-то стоять скучно, а разнообразие – оно и кошкам приятно. Снял я этот лист ватмана со стены, перевернул на чистую сторону. У Кольки Кругликова пером разжился и тушью. Сейчас, думаю, я вам такое название напишу, что закипит у вас под черепной коробкой. Только что писать? Сначала мысли вертелись вокруг названий типа «Шалтай болтай» и «Хухры мухры». Но они показались мне слишком
простыми. Так сразу станет понятно, что это ерунда, и под черепной коробкой ни у кого не закипит. Думал я, думал, а время-то идёт. Так и весь ужин продумать можно. Перевернул, короче, я свою фамилию задом наперёд и написал. Вышло «Никябук». Мою фамилию по нормальномуто тяжело выговаривать, а уж перевёрнутой ей только студентов филологии пугать. В общем экстравагантно моя фамилия должна на стене смотреться, но коротко получается. Кино – оно посолидней должно быть, что ли. Не дотягивает моя фамилия до полноценного названия.
Вспомнил я тут друга своего школьного. Кличка у него была «Набобука». Вот и приписал товарищескую кличку. Вышло неплохо «Никябук набобука». Ахинея неприкрытая, но уже не просто там «Хухры мухры». Решил я также немного афишу завуалировать. Добавил для достоверности «фильм с субтитрами. начало 20.00». Вот эдакую штуку назад и повесил.
Я Вам скажу, сколько потеряли доктора практической психологии, что не подметали у нашего модуля. Это было сплошное изучение психологии. Люди шли мимо, быстро читали, отворачивались, потом снова читали, отворачивались, потом останавливались. И снова читали. Они читали внимательней чем завещание от богатых родственников. Потом, когда, наконец, прочитывали, они долго вращали глазами, потому что подобной ахинеи здесь раньше не читали. Они вращали глазами, потому что боялись, что их сейчас обманывают. Хотя они и должны были догадаться, что их обманывают.

Я всё ждал, когда кто-нибудь из них махнёт рукой и крикнет:
- Надо же какая ерунда!
Но я не дождался. Один солдатик три раза возвращался читать, потому что не мог запомнить. И всё это на полном серьёзе. Мои товарищи от души посмеялись за это время. Я тоже смеялся и думал, что это смешно, но оказалось смешно – это когда точно знаешь, что будет дальше.
Когда стукнуло 20.00, я собрался пойти узнать – неужели найдётся кто купился на эту дурацкую афишу. Хотя друзья убеждали, что ни одного такого человека не найдётся, поэтому ходить не стоит. И даже острили над моими опасениями. Но червь сомнения робко топтался по днищу моей тревожной души, и я пошёл.
Когда я подошёл к клубу – я расстроился. Я сильно расстроился. Египетский фараон не расстроился так, когда Моисей увёл у него всех евреев. Это было полное несчастье.
Клубные лавки люди забивали своими задами так же плотно, как забивали патроны в магазины АКМ. Кому не хватило лавок, тащились с личными табуретами, и рассаживались по бокам от палатки-клуба. Края у клубной палатки подняли, как во время особо массовых мероприятий. Не удивлюсь, если такой аншлаг случился с этим клубом первый раз.
Это было сплошное разочарование. Я хотел получить ответ и я его получил. Это был жалкий, кривой и сгорбленный ответ. Он разочаровал меня. А я разочаровался в людях. Люди оказались близоруки. Целая уйма народа. Люди не увидели глупости, которая показывала им язык с афиши. Они не поверили слову начальника гарнизона, они поверили чепухе, которую я написал практически на заборе.
Я смотрел на них и волосы шевелились у меня на голове. Ведь кроме личного горя от людской легковерности на меня свешивалось новое обстоятельство. Дело принимало совсем другой поворот. Выходило так, что какой-то шутник своей выходкой прилюдно забил на начальника гарнизона вместе с его запретом фильма. И, что обидно, фамилия этого шутника красовалась на афише в перевёрнутом виде. Так, что эту фамилию вполне легко можно было вычислить.
Бывает, что в армии нарушают дисциплину. Тогда человека ругают, наказывают, но в душе ему сочувствуют, он всем понятен. Через это проходили все. Другое дело, когда ты подшутил над самым главным лицом в радиусе двухсот вёрст вокруг. Через такое никто не проходил, и понимать тебя никто не станет. Такое лицо хочется обижать меньше всего.
Собирался ли я шутить изначально? Изначально я не собирался. Но шутка на горе мне вышла не хуже, чем у Аркадия Райкина. Разница в том, что Аркадия Райкина после шуток ждали деньги. А что ждало меня? Мог ли я тоже рассчитывать на деньги? К чему этот вопрос? Всё, что причиталось мне после шутки, могло быть только бесплатным.

Казалось ситуация требовала осмысления, но какое осмысление? Это был как раз тот заколдованный случай, когда думать уже поздно. Единственное, что могло меня спасти – это, если бы сейчас все дружно встали и ушли. Но кто этой уйме народа должен сообщить, что шутка давно закончилась? Может я? Ведь из всей этой уймы только я один знал правду. У меня даже на секунду мелькнуло видение как я хожу между рядов и уговариваю:
- Граждане военные, кина не будет. Это я, паршивец такой, подсунул вам афишу. Не хлопайте зря глазами. Расходитесь. Вам тут ничего не покажут.
Однако эта роль не настроила меня на оптимистический лад. Я посмотрел на воронёные стволы «стечкиных», выглядывающих у зрителей из щёгольски обрезанных кобур, и отмёл эту мысль напрочь.
Поскольку «кина» в указанное на афише время не началось, народ начал выражать недовольство со свойственной мужскому коллективу прямотой:
- Киньщик, мать твою! Долго сидеть будем? Фильму давай!
Но, ни киньщика, ни начальника клуба в обозримом пространстве не объявилось. Коллективное недовольство стало проявляться всё громче, а применение печатных слов всё меньше. И случилось то, что обычно в таких случаях случается. Пару воронёных стволов взвились над зрительскими головами и по паре раз недовольно шугнули воздух звонкими выстрелами.
После пальбы в клубе и появился начальник гарнизона полковник Горшков. Он всегда старался пресекать пьяную пальбу. Учитывая то, что пальба производилась с требованием вечернего фильма, вид у него был недовольный, хотя и удивлённый.
Что было делать мне? Я смотрел на него и ждал. Скоро я узнаю конец этой истории. Я хотел, чтобы конец у этой истории был счастливый. Но что хотел он?
- Где начальник клуба? – прогремел начальник.
Как из-под земли вырос начальник клуба, и вытянулся перед ним.
- Ты что здесь устроил? – устрашающе спросил Горшков. - Я же отменил сегодня фильм! Что за самовольство?
- Никакого фильма никто не собирался, - залепетал начальник клуба, - никто не объявлял. Я тут… В общем…всё как вы приказывали.
- А чего здесь люди собрались? – спросил Горшков, но уже удивлённо.
- Не могу знать! - почти крикнул начклуба.
Горшков повернулся к ближайшему от него зрителю:
- Фильм пришли смотреть?
- Фильм, - ответил тот.
- Какой фильм?
Тот напряг память, поморщился и с сомнением произнёс:
- Кажись «Тара-бара».
Горшков отшатнулся от него, удивлённый ответом. Подумал и повернулся к следующему:
- Как фильм называется?
Тот думал не меньше предыдущего и извиняющимся голосом ответил:
- «Саму-масу», как-то так.
Горшков смотрел на этих взрослых людей, но очевидно у него возникла ассоциация с детским садиком. У него вдруг пропало всякое недовольство и на лице появилось весёлое любопытство.
- Какой фильм? – уже заинтересовано, с искоркой в голосе, спросил он у третьего.
Тот, памятуя предыдущие ответы и видя любопытство Горшкова, встал, долго мялся и, наконец, пожимая плечами, выдавил:
- Да не смогу я вспомнить товарищ командир.
Развязка этой истории наступила весьма счастливая. Вот, если бы это был не Горшков, а какой-нибудь другой командир, то вполне мог бы вывернуть наизнанку запутанное дело. Но Горшков был человек с огромным чувством юмора. Глядя на недоумевающие и, в общем-то, глуповатые лица потенциальных зрителей, он открыл рот и начал смеяться во всё горло. Он решил, что это очень смешно, когда куча взрослых мужиков пришла смотреть кино, и не может сказать точно куда она пришла. Он оказался единственным, кто здесь посмеялся над моей шуткой.
Насмеявшись, он махнул рукой и разрешил начальнику клуба показать любой фильм из старых запасов, поскольку впотьмах уже всё равно никто не работал, и ушёл. Я очень громко и далеко выдохнул и почувствовал облегчение сильнее, чем после известных процедур. Естественно, сразу побежал сжигать афишу со своей фамилией. Кстати впоследствии кличка «Никябук» так ко мне и прилипла.
Спасибо Горшкову, что не начал выяснять, кто осмелился отменить его приказ. Хороший был мужик. Золотой. Царствие ему небесное.
Митька
Был у меня друг Митька Елизаров. Да как был, он и сейчас мой друг. Да как друг? Гад он, в общем. Всё культурного из себя строил. В теннис играл. Это в 1985-м году. Ещё про Ельцина никто и не слышал. Многие о такой игре и не подозревали. А он с ракеткой, в чёрных очках и в белых шортах ходит. Это, говорит, игра для интеллигентов. Теннисные корты к удивлению уже были, но, чтобы до Митьки ими кто-нибудь пользовался, не встречалось.
Ещё Митька свой кругозор расширял. Литературу там всякую читал и даже английский язык сверх школьной программы штудировал. Мечтал стать лётчиком-испытателем, а для этого требовалось обширный кругозор развивать. В общем, готовил себя всячески. Хотя до этого уже два красных диплома имел. Один от техникума связи, а второй от Ейского лётного училища. Короче, по всем параметрам был он человек «не наш», подозрительный, хоть и член партии.
Кинокамеру в Афганистан припёр. Кто бы до такого ещё додумался? Ходил всё снимал. «Это мне для личного архива» - говорил. А кроме как снимать для этой камеры, нужно ещё и плёнку проявлять. Непроявленную через границу не пропустят. Тогда ведь бдительность была. А сколько для проявки реактивов требуется? Прорва! Ну и ещё всяких лишних причиндалов. Нормальные люди, понимаешь, чего-нибудь полезное старались через границу провезти для перепродажи. Чтобы маленько обогатиться в суровых условиях социалистической бедности. А этому кино подавай.
Вот этот самый Митька, подходит ко мне как-то в Кандагаре с двухкассетным магнитофоном и говорит:
- Неправильно мы магнитофон называем. Мы говорим Националь-панасоник, а это неправильно.
Двухкассетный магнитофон для советских людей того времени представлял собой чудо техники и одновременно роскоши. Импортные магнитофоны в СССР тогда не завозились. Отечественного производства только однокассетные были. И чтобы музыку записать, Антонова там или Пугачёву, нужно было сначала со втор- Какой фильм?ым магнитофоном договориться. А тут вставил сразу две кассеты, и переписывай сколько хочешь. Понятно, народ наш такую диковину первый раз только в Афганистане увидал. До этого посмотреть её было просто негде. Поэтому каждый уважающий себя воин-интернационалист считал своим долгом вернуться на Родину с двухкассетным магнитофоном. И было это неотъемлемой частью его имиджа и престижа.
По прибытии в Афганистан офицер или прапорщик обязан был изучить науку о двухкассетных магнитофонах: какие фирмы выпускают, из каких стран, какая фирма надёжнее, какие частотные характеристики, где лучше покупать, за чеки или за афгани и т.д. Диспуты по вопросу приобретения двухкассетников составляли обязательную часть воинского быта. Участвовать в них надо было с серьёзным лицом и изредка самому вставлять замечания, что ты тоже слышал как один бывалый рассказывал… Иначе имелась опасность прослыть в глазах общественности «неграмотным».
Поэтому перемалывая каждый день тонны информации о двухкассетниках, я явно не мог быть неграмотным. А про фирму эту, что Митька вспомнил, все и всегда говорили «Националь-панасоник». Что же они все дураки? Выходит только один Митька знает, как правильно говорить. Не может же такого быть. Сами подумайте. Я ему и говорю:
- Ну, ты, конечно, самый умный. Всё знаешь. А остальные дураки неправильно говорят. Один ты правильный.
- Все не все, - отвечает Митька, – а правильно говорить не «Националь», а «Нэшинэл».
- Сам ты шинель, - говорю, – читай. На нём даже по-русски прочитать можно - националь.
- Нет, - упёрся Димка, - нэшинэл.
И главное улыбается, гад. Улыбка у него даже не издевательская, а ещё хуже. Он как бы про себя усмехается. Мол, ему это семечки, а нам, олухам, значит, такие истины не доступны.
Ну, завёл он меня. А я ведь ему вот только десять чеков проспорил. Теннис его гадский оказывается с двумя «н» пишется. Кто бы мог подумать?
Ну, думаю, пришла пора Митьке по полной платить, за все его издевательства. Решил я отомстить. Надо, думаю, с ним поспорить, пока он не разобрался. И десять чеков своих верну, и зарвавшегося «Знайку» на место поставлю.
Но на всякий случай решил не торопиться. «Месть – это блюдо, которое едят холодным», как говорят на Сицилии. Чтобы подстраховаться пошёл к Лёхе Ларюшкину.
- Как, - спрашиваю, - Лёха магнитофон «Националь-панасоник» правильно называется?
- «Националь» - отвечает Лёха.
- А вот представь, - говорю, - Митька доказывает, что не «Националь», а «Нешинель».
Лёха на себе рубаху рвёт.
- Я, - кричит, - второй раз в Афгане. Через меня, - кричит, - эти магнитофоны может пачками проходили. И всегда «Националь» назывались. Спорь смело. Ошибка исключена. Надо Митьку этого обуть, а то он умничает постоянно.
Ну, раз Лёха говорит, значит правильно я магнитофон называю. Думаю, вот оно – справедливое возмездие приближается. Обую-ка я Митьку чеков этак на двадцать пять (50 рублей по-нашему). Десять, стало быть, назад верну, и ещё пятнадцать в наваре, за все обиды прошлые. Ничего, у Митьки не убудет. Он же с меня десять стянул, не поморщился. Стяжатель эдакий! Никакой ему пощады.
Пошёл я к Митьке быстрее, пока он не опомнился, и как бы невзначай спрашиваю:
- Так как ты там говоришь «Националь-панасоник» правильно называется? Шинель какая-то?
- Нэшинэл, - отвечает и опять противно улыбается.
А я не улыбаюсь, чтобы не спугнуть. Ничего, думаю, посмотрим, кто в конце улыбаться будет.
- Если, - говорю, - не знаешь Митька, как правильно говорить, так и скажи, что не знаешь. А то начинаешь какую-то хренотень нести.
- Почему же не знаю? – отвечает. – Я же и говорю правильно произносить нэшинэл.
Ага, думаю, зацепило. Теперь с крючка не соскочит. И в лоб ему:
- Если ты такой умный давай на двадцать пять чеков поспорим, что правильно говорить «националь», а «не шинель» твоя.
- А давай, - принимает вызов Митька и руку протягивает.
- Лёха, - кричу (Лёха Ларюшкин рядом как бы случайно крутится),
- иди, разбей!
Лёха разбил. Митька говорит:
- Сейчас, я только за учебником английского языка сбегаю.
- Конечно сбегай, - соглашаюсь я, - только бегай недолго. Мне деньги срочно нужны.
Приносит гад-Митька словарь английский и показывает:
- Ты же по школе должен помнить: пишется революцион, а читается революшин, пишется комуницион, а читается комунишин. То есть пишется по-английски «цион», а произносится «шин». Поэтому пишется национал, а читать нужно – нэшинэл.
Я глазами Лёху ищу. Надо же возражать чего-нибудь. А Лёха уже в коридор умотал и оттуда глазами хлопает. А я тоже не знаю, что возразить. Действительно говорим «революшин», а пишем «революцион». Такие вещи каждому коммунисту знать полагается. Это, что же получается? Получается, что мы такой простой хренотени не сообразили? Выходит это не Митька, выходит это мы проспорили? И почему мы? Деньги-то Лёха отдавать не собирается. Своих кровных я один лишаться буду. Лёха только себя в грудь стучал, и как бы всё. Насчёт его денег разговора не было.
Я аж воздухом поперхнулся от такой несправедливости. Это к тем десяти чекам, Митька ещё двадцать пять моих положит. То есть опять деньги ему в карман? Стяжателю этому? Чую, лица на мне нет. А у него лицо на месте. Только пошире от улыбки расползлось. Это я кроме денежной травли ещё и улыбку наблюдать должен? Очень гадскую улыбку, между прочим. И Лёха тоже! Эти магнитофоны через меня пачками проходили…
Разве не гад Митька после такого? Неужели он так за все свои злодеяния ответственность не понесёт? За улыбку свою гадскую? Сидим с Лёхой, курим. Лёха догадывается, что виноват. Помнит, как рубаху на груди рвал.
- Что, - спрашиваю, - «Панасоники» пачками через тебя проходили?
- А чего? – отвечает Лёха. – Это же не я. Это Митька всё! К чему теперь эти крики и недовольство?
- Конечно, - говорю укоризненно, - денежки только из моего кармана тю-тю.
- Нет, - кричит Лёха, - меня Митькины проделки тоже очень расстроили. А я так расстраиваться непривыкши.
- Что же теперь делать? – спрашиваю.
- Отомстить ему надо, - отвечает Лёха, - нельзя, чтобы Митька дальше ходил и улыбался. Надо ему месть придумать.
- Спасибо, - говорю, - я ему уже за десять чеков отомстил. Теперь вот ещё двадцати пяти лишился.
- А давай, - подмигивает Лёха, - скажем Митьке, что его за границу служить переводят.
Для военного служба за границей – свет в конце туннеля. Под «заграницей», конечно, понимаются страны соцлагеря: Германия, Польша и т.д. Афганистан – он тоже за границей. Но какая это к чёрту «заграница»? А на соцлагерь любой купится. Хорошая приманка.
- Давай, - отвечаю Лёхе, - только не могу в толк взять, для чего?
- А-а-а, - поднял Лёха палец, - Митька пойдёт к командиру полка уточнять, правда ли его за границу посылают. А командир удивится и скажет ему: «Митька, ты что, дурак?»
Мне идея понравилась. Если командир так Митьке скажет, Митька навсегда опозорен будет. Чёрт с ними с деньгами. Зато любой его сможет подколоть: «Митька, ты что, дурак?» И все сразу поймут, о чём идёт речь. Это мы тогда Митьке на всю жизнь отомстим. Только Лёха засомневался:
- Митька нам не поверит. Мы откуда раньше всех такую новость можем знать? Не можем. Нам он точно не поверит.
- Ну, - говорю, - давай не мы. Давай кто-нибудь другой скажет.
- По идее, - размышляет Лёха, - это ему или комэск должен сообщить, или кто-то из штабных.
Понятно, комэск такую дребедень сообщать не согласится. Да ещё и нас пошлёт. Со святыми вещами не шутят. А заграница для военного – это святое. Придётся с кем-нибудь из штабных договариваться.
Тут мне и вспомнился прецедент, который в нашем полку когда-то организовал подполковник Любчик. Суть была такая.
Лётному составу раз в год, кроме очередного отпуска, полагался профилакторий. Сам профилакторий для закавказских лётчиков располагался в Чимитакваджи. Вот туда на неделю, в составе звена выезжала группа оздоравливающихся. В профилакторий семьи брать было не положено. Считалось, что лётчик должен там за неделю отдохнуть от всех забот, включая семейные, набраться новых сил и приступить к дальней- шим полётам уже с этими новыми силами.
Вот в Чимитакваджи и поехало оздоравливаться очередное звено. Четыре лётчика со средним нестарым возрастом. Понятно, что молодому цветущему организму, не обременённому по вечерам семейным бытом, не грех взбодриться, например, сухим грузинским вином. Или как получится.
Чтобы сильно не тратиться на выпивку, обычно с собой брали бесплатного авиационного спирта. Кстати сильно тратиться всё равно бы не получилось. В то время зарплату было принято отдавать жёнам, а «заначка» выглядела более чем скромно. Короче ребята повезли с собой двадцатилитровую канистру авиационного спирта. От медицинского он отличался чистотой фильтрации, но по градусам соответствовал – «96».
Их, конечно, предупреждали, что надо брать с собой только десять литров. Но неопытная молодёжь отшучивалась типа: «Запас карман не тянет», и «Не учите жить, лучше дайте взаймы».
Когда же они вернулись через неделю, их лица были «чёрного» цвета. Точнее их лица были неестественного цвета, нехарактерного для лётчиков-здоровяков. Причём это был не загар. Это были последствия выпитой двадцатилитровой канистры.
Оздоровленные по приезду вели себя излишне тихо. Резко не поворачивались, старались не нагибаться. На все вопросы пожимали плечами. Однако объяснение такому их поведению всё же нашлось. После долгих, осторожных расспросов картина вырисовалась следующая: прибыли в профилакторий, вечерком решили опрокинуть по стаканчику спирта, но больше из комнаты уже не вышли. Точнее никто не мог вспомнить: выходили они из комнаты или нет?
Хотя согласно логике из комнаты они должны были выходить. Закуску же где-то брали. Обрывочные воспоминания недельного запоя были короткие, неяркие, и в единую картину не складывались.
Этим и решил воспользоваться Любчик (тогда ещё майор). Склонный к всяким весёлым неожиданностям, он решил ребят развеселить. Для этого придумал маленький розыгрыш.
Потихоньку пошёл в строевой отдел части, подсел к солдатику, который печатал приказы на печатной машинке и вместе с ним состряпал письмо на имя командира полка. Якобы оздоровленные, будучи в Чимитакваджи нетрезво проштрафились. В письме, обращаясь к командиру полка написал, что, мол, военнослужащие вашей части, находясь в профилактории, устроили дебош в ресторане, разбили зеркальную витрину стоимостью 169 рублей 15 копеек (большие по тем временам деньги) и отказались возместить ущерб. Письмо это якобы от начальника профилактория. В конце, правда, Любчик переборщил, допечатав, что командующему Военно-воздушных сил СССР маршалу Кутахову П.С. уже сообщено. Для достоверности Любчик шлёпнул угловой штамп нашей же части «Для бланков», которым по службе пользовался солдатик.
Запихав письмо в какой-то старый конверт, который валялся тут же, Любчик вышел караулить кабинет командира полка. Дождавшись, когда командир вышел на минуту, Любчик проскочил в кабинет и бросил конверт командиру на стол.
Ничего не подозревающему лётному составу вдруг объявили срочный сбор, как по тревоге. Мы побросали все дела и прибыли в класс «постановки задач». Командир зашёл взъерошенный, злой. По всему было видно, что он переполнен эмоциями. Злость в нём только накопилась и нерастраченная ожидала своего выхода. Мы ожидали стоя. Командир приказал всем сесть кроме оздоровленного звена. Те остались стоять на всякий случай понурив головы и потупив взоры.
- Вы, почему не доложили? – начал командир вроде тихо, но протяжные шипящие его выдавали.
Стоящие переглянулись и напряглись. В глазах мелькнуло недоумение, но переспрашивать не решались. Командир, не дождавшись ответа, приступил к допросу:
- В ресторан ходили?
Оздоровлённые снова переглянулись, но не произнесли ни слова.
- Вы, что мне тут Ваньку валяете? Дурачками прикидываетесь? – заорал командир во весь голос. Переполнявшая командира злость хлынула в аудиторию.
Остальной лётный состав нервно начал уточнять: что же всё-таки случилось? Командир, хлопнув указкой по столу и достаточно проматерившись, более спокойным голосом зачитал письмо начальника профилактория.
- Так, что – было? – нервно спросил он в конце.
Стоящие обомлели, мучительно поморщили лбы, но не возразили.
Весь их вид говорил: наверное, было.
- Позор на все Военно-воздушные силы! – застонал командир. - Вы хоть понимаете, что с вами теперь будет? Выгонят с лётной работы к чёртовой матери! Как можно быть такими идиотами? А почему за зеркало отказались платить?
Стоящие долго молчали. Наконец командир звена тяжело выдохнул:
- Да не помним мы.
Командир, ещё поматерившись, посмотрел на начальника штаба:
- Ну что? Надо меры принимать. Думай, как их наказывать будем.
Главкому уже всё известно.
Любчик, настроившись вначале на весёлый лад, теперь ёрзал на своём стуле. Он ожидал реакции на своё письмо явно поскромнее, и теперь судорожно соображал, что делать. Любчик понимал, вмешавшись в ситуацию даже с видом простака, он выдаст себя, но если комедию не остановить, она может перерасти в трагедию.
- Товарищ командир, а там точно штамп профилактория стоит?
Может, это из ресторана прислали? – громко спросил Любчик.
Понятно, насколько нелепо прозвучал его вопрос, но ничего другого Любчик придумать не успел. Командир поднял письмо к глазам и вгляделся в угловой штамп. Когда он сообразил, что смотрит на штамп собственной части, перед ним медленно начала проясняться картина происходящего и каким идиотом он выставил себя перед собственным лётным составом. Командир оторвал налитые кровью глаза от штампа и посмотрел в класс, готовясь к прыжку. Но Любчик уже предусмотрительно выпрыгнул в окно.
Вот эта почти забытая история вдохновила нас с Лёхой осуществить план митькиной мести через письмо. В общем, план был такой. Якобы из Южной группы войск (Венгрия) пришло письмо от командующего, что он вызывает к себе на службу Лёху Ларюшкина на должность командира звена, а вместе с ним запрашивает ещё одного лётчика на должность старшего лётчика с уровнем подготовки не ниже 2-го класса. По всем критериям под эти стандарты подходил только Митька и поэтому Митька должен был пойти к командиру полка и попроситься на службу в Венгрию. А командир ему бы тогда и сказал: «Митька, ты что, дурак?»

Понятно, что к Лёхе мог возникнуть естественный вопрос: с чего это ему такая радость? Но мы разработали контрмеры, составив легенду о неком загадочном Лёхином знакомом.
После долгих уговоров и бутылки вместе выпитой, помочь с пись- мом согласился заместитель начальника штаба полка. Мы его называли просто Геннадьевич. Прямо у него в кабинете мы состряпали письмо, наставили штампов в размазанном виде, чтобы невозможно было точно разобрать номера части и исписали письмо всевозможными резолюциями, используя разные пасты: «Ознакомить в части касающейся»,
«В приказ», «Довести до исполнителей», «Представить решение» и пр.
Поскольку Митька жил с Лёхой в одной комнате Геннадьевич должен был зайти к Лёхе и сказать:
- Долго я за тобой бегать буду? Почему до сих пор не расписался? – и дать Лёхе письмо.
Естественно, пока Лёха будет медленно расписываться, Митька успеет прочитать текст. После чего Геннадьевич уйдёт, а Митька задумается и неминуемо сообразит, что ему в жизни выпал счастливый билет. Договорились, сигналом, что Митька на месте будет задёрнутая занавеска. Согласовав тонкости плана, мы выдвинулись к месту проведения операции.
В Лёхиной комнате всего проживало четыре человека, включая Митьку. Все были на местах, но в гостях ни к месту находился командир соседнего звена Костя Колесников, больше известный как «Кастор». Мы не придали этому значения и, как позже выяснилось, зря.
Костя только что вернулся от вертолётчиков, с которыми охотился на джейранов с вертолёта, поэтому красочно описывал особенности вертолётной охоты. Сначала его посадили впереди за пулемёт и он расстреливал бегущую стаю джейранов. Но скорость у вертолёта большая, поэтому, когда стая «уползла» под вертолёт Костя начал стрелять «под себя». Вертолётчики сказали, что так можно подбить вертолёт собственными осколками и пересадили Кастора в салон. Там ему поручили выбрасывать в иллюминатор сигнальные шашки по команде.
В пустыне, если удалось подстрелить животное, нужно обязательно обозначить это место. Потому что пока вертолёт развернётся данное место уже не найти. В пустыне отсутствуют какие-либо ориентиры, за которые можно «зацепиться», к тому же на малой высоте вертолёт поднимает кучу пыли и без сигнальной шашки ориентироваться просто невозможно.
Костя угощал товарищей свежежаренным шашлыком и, похоже, уходить не собирался. Лёха ждал, сколько мог, но, понимая, что Геннадьевичу может надоесть сидеть за окном, задёрнул занавеску.
Через две минуты вошёл Геннадьевич. Он протянул Лёхе письмо и произнёс оговоренную фразу:
- Долго я за тобой бегать буду? Почему до сих пор не расписался?

Лёха начал медленно расписываться. Митька, вытянув шею, внимательно читал текст через Лёхино плечо. Кастор, сначала ничего не понимая крутил головой, потом спросил:
- Геннадич, это чё? – и вырвал у Лёхи письмо.
Быстро прочитав письмо, Кастор, если так можно выразиться, взревел:
- Ни фига себе! Я тоже в Венгрию хочу. На черта мне эта должность командира звена сдалась. Я согласен старшим лётчиком в Венгрию ехать. – И размахивая письмом, направился к выходу.
Геннадьевич чувствуя, что дело принимает неожиданный оборот, изловчился, выхватил у Кастора письмо и выскочил из модуля. Митька как бы про себя, но так чтобы слышали все, пробубнил, мол, по всем параметрам он подходит для поездки в Венгрию.
- Чего? – заорал на него Кастор. – Молодой ещё. С моё по дырам помотайся. И думать забудь.
Потом повернулся к Лёхе:

- Это откуда у тебя такая «волосатая лапа»? За границу, да ещё с повышением.
- Да это когда… в общем ещё с первого Афгана, - начал мямлить Лёха,
- с одним водку пили… а он потом по кадровой линии…
Но этого оказалось достаточно. Кастор уже не слушал. Выйдя в коридор, он продолжал громко возмущаться:
- Ни фига себе! Без году неделя в армии, а уже в Венгрию собрался.
Тут заслуженные люди в очереди стоят. Послужи сначала с наше. Лёха, я с тобой в Венгрию поеду!
На крик в коридор вышел Лёша Кузин, тоже командир звена. Он удивлённо стал расспрашивать Кастора о Венгрии. Узнав в чём дело, стал урезонивать Кастора:
- А почему это ты в Венгрию собрался? Чем ты лучше других, вот меня, например?
- Ты холостяк, - отрезал ему Кастор, - тебе, что Венгрия, что Закавказье
– один хрен. А у меня дети.
- Какие дети? – возмутился Кузин. - У тебя один детё. Я женюсь и за год себе такое же сделаю. Так, что не надо тут про детей рассказывать.
Начал потихоньку в коридоре народ собираться, а разобравшись в чём дело активно включаться в дискуссию. Число желающих поехать в Венгрию «с понижением в должности» интенсивно росло. Поскольку все желающие оказались по должности и по возрасту старше Митьки, ему даже рта не дали раскрыть.
Сначала каждый подходивший недоверчиво спрашивал, откуда, мол, информация? Толпа в ответ рявкала:
- Да Кастор своими глазами письмо видел, – и дружно тыкала паль- цами в Кастора.
После такого убедительного аргумента вновьприбывший отчаянно кидался «на амбразуру» защищать своё семейное счастье. В пылу накалившихся страстей постепенно начали переходить на личности, вспоминать старые обиды. Многие раскалились добела и продолжали дальше раскаляться. В воздухе запахло жаренным.
Слава Богу, в ситуацию вмешался старший штурман части Володько. Чтобы не дошло до смертоубийства, он предложил немедленно пойти к командиру и выяснить, кто же всё-таки поедет в Венгрию? Толпа, в общем-то, согласилась, но двинулась к командиру, не прекращая перепалки.
Командир полка вышел на порог своей командирской «бочки» в трусах и накинутой поверх ватной куртке. Каждый в отдельности сходу начал доказывать, что именно он достоин ехать с Ларюшкиным в Венгрию и плевать на понижение.
Командир долго не мог въехать чего от него хотят, а когда понял
– развеселился:
- Ну, вы и придурки, - сообщил он желающим. – Какая Венгрия? Какой Ларюшкин? Кто вам эту галиматью в уши накапал?
Что дальше рассказывать? Не стали мы с Лёхой реакции толпы на слова командировы дожидаться. Побежали сразу к Геннадьевичу просить, чтобы он нас не выдавал, ведь про письмо-то у него первого выпытывать начнут. Только Геннадьевич не согласился на себя всю вину взять.
Оно понятно. Народ не в меру разнервничался, а у каждого на боку
«Стечкин» приделан и сто патронов боезапаса. Кому ж охота таких за нос водить?
- Есть у меня в инженерном батальоне знакомые, я с ними договорюсь, - пообещал Геннадьевич, - до ночи там отсидитесь, а к вечеру народ успокоится. Как спать ляжет, возвращайтесь в свои комнаты. Может всё и обойдётся?
Это, в общем-то, лучше, чем с толпой нос к носу встретиться. Вроде как игра в жмурки. Главное – чтобы только не нашли. Сидим мы с Лёхой в инжбате. Жрать охота, в столовую ведь не сунешься. А Митька на своей койке лежит, сытый. Ну, и не гад он после этого?

Ларюшкин
Авианаводчик – официально такой профессии нет. Официально считается, что любой командир роты способен наводить самолёты на цель и корректировать их огонь. Однако практика сие не подтверждает. Опыт показывает, что сухопутные офицеры при наведении самолётов используют такие термины как дерево, дом, бугорок и т.п.. В эфире это выглядит так:
- Вон там дом рядом с деревом, за бугорком. От него как раз канава идёт. Они гады в этой канаве засели!
В это время лётчик видит сверху сотню домов, лес деревьев и тысячу бугорков, а вот канавы вообще не видит. Потому как канава служить ориентиром не может. Канаву сверху совершенно не видно. Определить в данном случае где «они гады засели» невозможно. Начинаются дополнительные вопросы и дополнительные ответы. Когда ситуация запутывается полностью начинается нервное «твою мать», которое неминуемо переходит в «сам пошёл».
В действительности наземных офицеров работать совместно с авиацией никто не учит. Хотя может это и правильно. Толку от этого всё равно никакого не выйдет. А использование командира роты в качестве авианаводчика опасно, в первую очередь, для его же роты. Когда противник находится от тебя в 100 метрах, навести бомбардировщика на себя – это как два пальца об асфальт.
Ввязывание в любой военный конфликт обычно начинается с сухопутной операции и полного непонимания сухопутным начальством: при чём здесь авиация? Когда потери живой силы доходят до неимоверных чисел, начинаются робкие воспоминания о поддержке с воздуха. Тогда нехотя по отношению к авиации делают первые робкие шаги, показывая при этом, что авиацию пока ещё в упор не замечают. Затем, после первых авиаударов на смену приходят расширенные удивлённые зрачки – насколько авиация оказывается эффективная штука. Потом входят во вкус. Привлекают авиацию всё больше и больше. Ни одно передвижение войск уже без авиации даже не планируется. Ни одна колонна без авиасопровождения не выдвигается.
Когда имеется полная авиационная поддержка, связь и чёткое управление каждой воздушной единицей, войсковые операции становятся не опаснее игры на компьютере. Теперь наземные операции начинают рассчитывать, исходя из возможностей авиации.
Тут и возникает дефицит в специально обученных людях – авианаводчиках. Они двумя, тремя фразами способны объяснить лётчику местоположение противника с точностью до метра. Они знают, что такое авиационные боеприпасы и условия их использования. Они в уме могут рассчитать какие типы самолётов и вертолётов когда появятся. Авианаводчики - это, как правило, бывшие лётчики «списанные» на землю по здоровью или по воздушному хулиганству.
Они прекрасно понимают, что отклонение авиационной бомбы от цели в 100 метров, это оценка – «4». Другими словами, если противник находится от вас на расстоянии 100 метров, но вместо противника самолёт долбанул по вам – это «хорошо». Так же они знают, что осколки от бомбы разлетаются на расстояние полтора километра, а любой из этих осколков прошивает танк.
Всеми этими премудростями авианаводчик владеет в совершенстве. И каждый комбат теперь желает, чтобы авианаводчик всегда находился рядом с ним, а сверху жужжала пара вертолётов.
Авианаводчики становятся нарасхват. Но, я уже говорил, официально такой специальности нет. В авианаводчики начинают переквалифицировать всех бывших лётчиков, которые попадаются под руку. Числятся они в разных частях на своих штатных должностях, а «шарахаются» по всей войне. Их, конечно, пытаются загнать в какие то структурные рамки, но всегда остаётся непонятно: кому они толком подчиняются, кто их должен наказывать, кто за них отвечает и, самое смешное, кто их должен награждать?
Авианаводчики, как правило, сбиваются в группы по три, пять человек и за начальство признают не ниже начальника гарнизона, руководителя авиабазы или укрепрайона. Поэтому ведут себя вольно, остальных начальников в упор не замечают, воинскую честь никому не отдают и вообще фуражки не носят.
Вроде бы житуха у них нормальная, но не торопитесь. Как бы банально ни звучало, но авианаводчик – синоним смертника. Представьте, довезли Вас до подножья гор на броне, дают человек десять охраны и дальше в горы своим ходом. Танки по горам не того, не лазают. Оружие, рация, харчи, воду не забудь. Килограмм так тридцать выходит. Думай теперь, как всё прицепить, чтобы тащить было удобнее. С утра ничего не ешь, днём тоже – пули на сытый желудок не перевариваются.
Должен прибыть в заданную точку, откуда будешь направлять действия авиации. А если кого встретите по дороге, это ваши проблемы. На помощь особо не рассчитывайте. Танки – они по горам не того.
Если в горы сегодня не требуется – значит, колонны сопровождать. Чтобы в случае нападения на колонну оказать квалифицированную помощь через авиацию. Добрались до места. Кто жив – отдыхать, окапываться, а тебе на следующую колонну. Потом на следующую. А нападения на колонны в горах – это местное народное развлечение и к тому же неплохо оплачиваемое. За подбитый грузовик 200 долларов, за танк – 500 (старыми).
При проведении боевых операций опять каждый командир батальона норовит авианаводчика себе «заполучить». Во время операции умный комбат ни одного солдата вперёд не пошлёт пока авиация «путь не расчистит». Тут уж авианаводчик – самый незаменимый человек. Почёт ему и слава. Только снова на самом переднем крае. Так у этих наводчиков вся война и проходит. Кто до конца доживает, конечно.
Вот этой самой «профессией» всегда пугали лётчиков, которые плохо себя вели. Обычных людей пугают тюрьмой и принудительным лечением. А лётный состав службой в авианаводчиках. Самих авианаводчиков правда ничем не пугают. Их, как ни накажи, всё в радость. Даже тюрьма (жив останешься). Поэтому разговаривают с ними всегда ласково. Начальство их неизвестно где, пугать нечем. Рявкнешь на него, а он тебя по матери прилюдно или в харю заедет, кому потом жаловаться? Авианаводчики вроде котов получаются, которые сами по себе ходят.
Когда военный конфликт заканчивается, авианаводчики разъезжаются по своим штатным должностям и эта профессия прекращает существование до следующего конфликта и бешенных неоправданных потерь. Прошу не путать с американцами. У них в верховном командовании дебилов не держат, которые бы авианаводчиков регулярно разгоняли. Поэтому дорогу для сухопутных войск, у них завсегда авиация расчищает. И после они ею как щитом прикрыты.
Но история не об этом. Это я так рассказал. Что бы понятно было, чем лётчиков на войне пугают. А пугать есть за что.
Пошла у нас как-то цепь одинаковых аварий: посадки без шасси. В Баграме садится Миг-23 на «пузо». Лётчик забыл их выпустить, а группа руководства со всеми помощниками и наблюдающими проглядела. Случай для авиации, прямо скажем гадкий, нехороший, так как говорит о плохом профессионализме и ударяет по самолюбию авиаторов. Начинаются громкие разборки, дополнительные занятия, тренажи и партийные собрания с персональными делами. Но если в авиации какая прорва накатила, ты, что хочешь делай, а процеСпасибо Горшкову, что не начал выяснять, кто осмелился отменить его приказ. Хороший был мужик. Золотой. Царствие ему небесное.pdiv class=сс не остановишь.
Через неделю в Кабуле садится без шасси Ан-26. Там вообще экипаж пять человек, и группа руководства «столичная». Кабул ведь столица. На глазах, можно сказать у высшего начальства. Опять забыли выпустить. Командующий авиации 40-й армии генерал Колодий ногами топал, кулаками стучал. Говорят, даже за пистолет хватался, такой злой был. Вроде, как хотел весь экипаж в авианаводчики определить. Две посадки без шасси почти в одном месте с недельной разницей. Позорищу на весь Советский Союз. Выговорами начальство облепили как ёжиков. Отпуска отменили. Наградные листы порвали. Хотели полёты прекратить, но нельзя. Сухопутчики уже во вкус вошли. Они теперь без авиации ни шагу.
В «верхах» тучи тёмные ходят, громы гремят и синие молнии сверкают. А мы внизу радуемся – хорошо не у нас. Нас пронесло. Но нам тоже каждый день про шасси долдонят, предупреждают на полном серьёзе, командир по столу указкой лупит. Хотя, чего уже? Два случая подряд. Не падает снаряд два раза в одну воронку. А тут считай попал. Не может быть, чтобы третий раз кто-нибудь без шасси сел. И представляете? Оказывается, может. Недаром кто-то ляпнул: ВВС(вэвээс) – страна чудес.
Ровно неделя прошла от последней посадки без шасси. Плетёмся мы на аэродром. Не спеша, так идём. Некуда торопиться. В казарме скукотища, на аэродроме тоже. Семьи в Союзе. Жарища – под сорок. «Стечкин» весь бок отбил, тяжёлый зараза. Да ещё сто патронов к нему. Вот уже взлётную полосу видать. Значит почти пришли. Вдруг, посреди полосы пылюка. Да много так пылюки. От машины столько не бывает. Мы шагу прибавляем. Не понятно, что это, а в пыли не разобрать. Потом чуть пыль ветерком снесло, видим: стоит, точнее, лежит на брюхе, красавец наш - «Су». Ёмаё, так это же кто-то из наших!
Видим, лётчики наши в кучу собираются. Мы трусцой к ним. Кто там сел? Что случилось? Они говорят:
- Кто сел не знаем. Только видели, по полосе искрил как на Новый год, а в середине полосы на грунт сошёл и остановился.
Вот, значит, от чего пылюка была – с полосы на грунт сошёл. Бежим мы к этому несчастному самолёту уже всей толпой. Подбегаем. Твою мать! Лёша Ларюшкин. Кабину открыл, вылез и курит. Настроение видать у него ни к чёрту. Усы висят. Смотрит в одну точку. Мы спрашиваем у Лёхи:
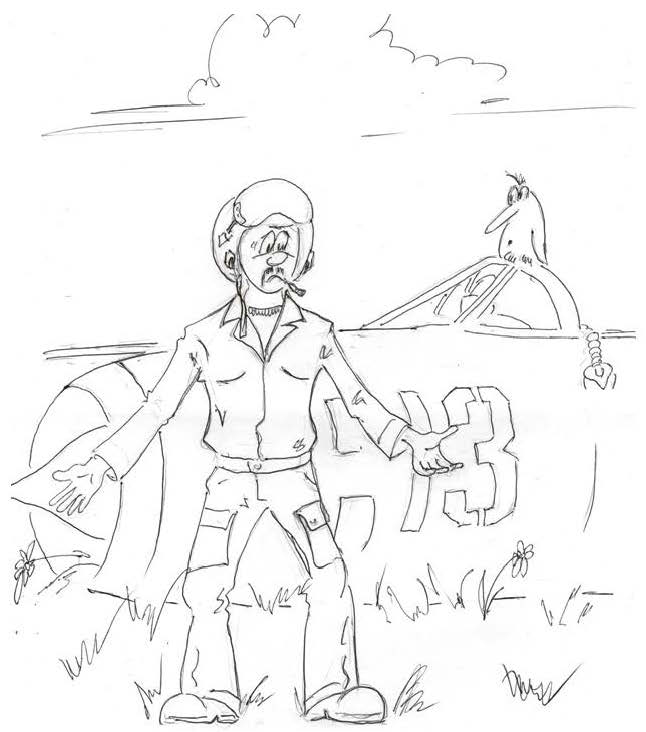
- Ну чё?
А он руками разводит:
- Вот.
- Забыл? – спрашиваем.
- Забыл, - отвечает.
Самолёт рядом маленький. Я даже не думал, что самолёт без шасси такой низкий. Хорошо у Лёхи под брюхом пилоны были. Это такие устройства на которые бомбы вешают. Пилоны на половину стесались, зато на корпусе ни царапины. Короче целенький самолёт, как из магазина. Командир полка на Уазике подъехал. Постоял. Посмотрел на Лёху.
- Да, - говорит, - Алексей. Неудачное ты время выбрал без шасси садиться. Колодию уже доложили. Вылетает из Кабула. Тут десять минут лёту. Так, что можешь его здесь дожидаться. А в общем повезло тебе, мог бы взорваться. Искрил, как на точиле.
Конечно, как на точиле. Живым-то самолётом по бетону. Если бы Лёха испытателем был и без шасси сел ему бы медаль дали, а может орден. А тут теперь: то ли от стресса отходить, ведь еле живой остался, то ли радоваться, ведь живой остался, то ли скорбеть в припадках – уже, считай, в авианаводчики «забрили»?
Приземляется вертолёт командующего. Выходит из него Колодий. Да как выходит? Медленно так выплывает. Можно сказать торжественно. Из глаз молнии. Плечи подняты. Рот перекошен. Хорошо шашки отменили, иначе точно бы Лёху зарубил. А рядом с командующим дедок невысокий. Как потом выяснилось генерал-полковник Модяев, начальник системы боевого управления воздушных сил Советского Союза. И спасибо ему. Подбегает он к Лёхе чуть раньше Колодия и по плечу его хлопает:
- Что пацан, без шасси сел? Не ссы, я в Отечественную тоже без шасси садился! – И к Колодию поворачивается, - Ну где у вас тут столовая? И в туалет мне нужно срочно. Так быстро вылетели, я ни того ни другого не успел. А тут и без нас разберутся. Пошли, пошли.
Смотрит Колодий на Модяева, желваки ходят. Но не может генералмайор генерал-полковника послать. Не положено это. Тем более что этот генерал-полковник – проверяющий. Короче, увёл дед командующего. А мы ещё над его фамилией подшучивали, изголялись. Выходит зря.
Наш командир полка быстро инженера вызывает:
- Что скажешь? Тот:
- На ноги поставим, а когда системы проверим, скажу точнее. Пока всё.
- Ставьте, – говорит командир, - только быстро.
Прикатили ребята с надувными пантонами. Подсунули их под крылья. Подогнали воздухозаправщик. Стали пантоны надувать. Всё один к одному, как специально. Одно крыло нормально, а у второго поворотную часть крыла отломили. Далеко пантоны друг от друга расставили. Когда быстро надо – всегда так.
Сдули их, сдвинули, опять накачали. Подняли в общем самолёт над землёй. Висит он на пантонах, болтается как на мячиках.
- Садись в кабину, - говорит инженер Лёхе, - попробуй выпустить шасси обычным способом.
Лёха залазит. Рычаг вниз. Надо же! Пошли миленькие. Без сучка, без задоринки. Стоит самолёт на своих колёсах, а то ведь здесь его даже эвакуировать не на чем. Он без топлива пятнадцать тонн весит. Где такую тележку найдёшь?
Прицепили к тягачу, потащили в ТЭЧ. Там системы прогнали, всё работает. Стёсанные пилоны отвинтили, выкинули. Давай поворотную часть крыла искать. Только где найти? Это же не запчасть. Нашли в полку у афганцев на подобной модификации. У афганцев все самолёты советские, а отчётность капиталистическая. Короче за канистру спирта договорились. Приделали её. Повертели. Ходит, как родная.
- Ну, что, - спрашивает командир у инженера, - летать сможет?
- Я бы лично, - отвечает тот, - этот самолёт в жизни в полёт не выпустил. А если Вы на себя ответственность берёте, то дело Ваше.
Командир у Лёхи спрашивает:
- Полетишь?
Лёха ещё от стресса не отошёл, ему бы водки и поспать, но понимает, командир выход подсказывает. Какой сейчас в задницу отдых. Может, удастся отвертеться от аванаводчиков-то.
- Конечно, - докладывает Лёха, - готов и страшно желаю.
- Заливайте минимальную заправку, - командует командир, - взлёт и сразу на посадку.
Потом вызывает командира эскадрильи:
- Мы ведь в Кандагар звено должны отправлять?
- Должны, - отвечает комэск, - завтра я сам поведу.
- Срочно включай в звено Ларюшкина и вместе с этим самолётом сегодня уматывайте. – Приказывает командир.
Лёха взлёт-посадку сгонял, всё работает. Приземлился. Зарулил на ЦЗ. А ему говорят:
- Ты возле самолёта побудь. Сейчас керосина дольём и уходите звеном на Кандагар.
Лёха:
- А бритву, а зубную щётку? Сумка-то в казарме.
- Какая на хрен сумка? – орут Лёше, - забудь про всё. Драпай, пока командир прикрывает.
Инженер полка комэска инструктирует:
- Как в Кандагар прилетите, самолёт поставить на стоянку, зачехлить и что бы я его в воздухе больше никогда не видел.
- Как зачехлить, - спрашивает комэск, - все задания на четыре самолёта рассчитаны?
- Ничего, - отвечает инженер, - на трёх полетаете. Духи не обидятся.
Ушло звено на Кандагар, только пятки засверкали. Кстати и бритву, и зубную щётку Лёхе потом передали.
Разобрался командующий с делами, отделался от Модяева и вызывает нашего командира полка. Видно принял уже твёрдое решение как Лёху наказывать, не миновать Лёхе авианаводчиков:
- Где этот подлец, который меня в грязь втоптал? Который меня на всю страну опозорил? Ведите сюда. Я его своими руками сейчас душить буду!
Командир докладывает:
- Как где, товарищ командующий? Изучил дополнительно матчасть, сдал необходимые зачёты, прошёл тренаж. Бьёт теперь врага в Кандагаре со всей пролетарской ненавистью на этом самом самолёте. Самолёт исправен, боеготов, никак не пострадал.
Командующий сначала дар речи потерял, а потом прорвало. Что командующий нашему командиру говорил, никто не понял. Может самого в авианаводчики отправить обещал, а может просто пристрелить хотел (шашки-то отменили). Сказали только, что командующий так орал, что у всех уши заложило. Поэтому видать никто ничего и не понял. Только остался Лёха на лётной работе. Принял командир весь удар на себя. И Модяеву конечно спасибо. Золотой старик.
А Лёхе командующий влупил служебное несоответствие за посадку без шасси. Вот так всё и обошлось. Недополучил лихой отряд авианаводчиков одного классного специалиста.

Властелин бочки
Афганистан, общеизвестно – страна мусульманская, поэтому её жители решительно не употребляют спиртных напитков. В магазинах у них совершенно отсутствуют винные отделы. Героин – это пожалуйста, хоть сто порций. Но военным из Советского Союза героин ни к чему, они к нему не привыкшие. А вот чего-нибудь попроще – водочки, например, очень требовалось. Но этого как раз в кантинах (магазины такие) шаром покати.
Советские военнослужащие неоднократно намекали афганцам на высокую рентабельность самодельной водки, в смысле самогона. Пробовали пробудить у предприимчивых местных жителей страсть к наживе через эту самую жидкость. Повышали их знания на данную тему в теоретическом отношении, и даже на практике показывали, как заправлять, куда вставлять змеевик, и откуда ожидать прибыльное вытекание. Ничего не помогло. Так и не смогли приучить афганцев гнать самогон. Недоступным для них оказалось это достижение цивилизации.
Военторг в данном отношении также занял предательскую позицию по отношению к военнослужащим ограниченного контингента. Конфеты, консервы, минералку и даже редкие книги – в порядке живой очереди. А вот, что-нибудь содержащее вожделенные градусы – ни в коем случае. Вдобавок всё это проистекало под высокоморальными лозунгами горбачёвской антиалкогольной кампании.
Понятно, что в существующих условиях многочисленная мужская компания, выполняющая интернациональный долг вынуждена была проявлять изобретательность, свойственную советскому человеку данного исторического периода. В ход шли леденцы, клеи, кремы, одеколоны, кефир, картошка… в общем весь перечень исходных материалов опробованных в предыдущие десятилетия на необъятных просторах Родины.
Естественно, что в условиях тотального дефицита особой ценностью пользовался уже готовый продукт, а именно – авиационный спирт. Спирт ведь для авиации – это расходный материал. Если чего сильно замёрзло, то поливают спиртом. Или, наоборот, перегрелось (колёса при торможении, например) опять спиртополив требуется.
Но, как Вы догадались, в сложной обстановке военных действий бедным самолётам спирта ни капли не доставалось. Хотя на качестве работы этой самой техники отсутствие спирта никак не сказалось. В условиях раскалённой пустыни ни одного случая обледенения зафиксировано не было, и тормозные диски, на полосе в два раза превышающей по длине необходимую, ни разу не перегрелись.
Так что всё предназначенное для обильного полива военной техники с удовольствием выпивалось личным составом, но, понятно, количество спирта, выделяемое для удовлетворения потребностей авиационной техники, только частично удовлетворяло потребности авиационных работников.
Бывалые авиаторы, поднимая глаза вверх, со вздохом рассказывали народу об особенностях конструкции самолёта Миг-25, у которого перед каждым полётом заливается 600 литров чистого спирта, и молодые специалисты с надеждой вглядывались в небо: не появятся ли там случайно Миг-25? Но за весь период кампании Миг-25-е на территории Афганистана так и не приземлились.
В установленных ГОСТами количествах спирт в гарнизоны поступал и распределялся согласно документам. Правда, здесь не всегда выходило гладко. Однажды экипажу вертолёта Ми-8, при перевозке трёх двухсотлитровых бочек спирта, удалось уговорить прапорщика сопровождавшего бочки, ненадолго приоткрыть одну из них…

Когда вертолёт приземлился, то почему-то не выключал двигатели и долго стоял с вращающимися винтами. Подоспевшая техпомощь выяснила: одна из бочек откупорена, экипаж, в полном составе, включая сопровождающего прапора, находился в невменяемом состоянии, а все имеющиеся на борту сосуды, включая целлофановые пакеты и лётные шлемофоны, до краёв заполнены ворованным спиртом.
Как им удалось долететь и посадить вертолёт по сей день является загадкой для всех, и для экипажа в том числе. Думается, уместно будет вспомнить бытующую некогда поговорку: «Мастерство не пропьёшь!»
После данного случая прапорщикам запретили участвовать в транспортировке спиртосодержащих смесей. Теперь сопровождающие назначались только из числа офицеров, количеством не менее двух. Экипаж вертолёта, конечно, наругали, и в наказание отобрали весь припасенный ими спирт.
Прилетавший таким образом спирт поступал в единоличное распоряжение инженера авиационного полка. Он, в зависимости от регламента и личных симпатий распределял его по эскадрильям и инженерным службам. Инженерам эскадрилий доставалась, как правило, бочка спирта, которую они хранили в своей комнате рядом с койкой. Учитывая конвертируемую важность и нужность авиационного спирта, инженеры автоматически превращались в «уважаемых людей», а статус «властелинов бочек» вполне уравнивал их со статусом начальников имеющих большие погоны.
Инженер эскадрильи лично выделял спирт подчинённому ему личному составу. Размер выделяемой доли определялся должностью, званием, сроком службы и теплотой личных отношений с инженером.
Простому лётному составу доставалось обычно не больше полулитры. Даты выдачи спирта считались торжественными и именовались «праздники выдачи спирта». Такие дни гарнизон отмечал с большим размахом и пышностью.
Спустя небольшое время после окончания «праздника» в розничной торговле «из под полы» появлялся спирт неустановленного происхождения по цене 60 чеков за бутылку. Продавался он через официанток и пользовался большим спросом, особенно у десантников, спустившихся с гор после участия в наземных операциях.
Не глядя на всеобщий почёт и уважение, люди «сидящие на бочках» находились в крайне тяжёлых условиях. Не всем оказалось под силу
«сидеть на бочке» и не спиться. Наш инженер полка «сгорел» буквально за полгода. Человек стал чёрного цвета, практически не мог членораздельно выражаться, только разводил руками. Никаких служебных обязанностей он уже выполнять не мог. Его уволили из Вооружённых Сил и отправили в Союз. Если бы этого не сделали, скорее всего, человек бы просто умер. Пространное утверждение «слишком хорошо, тоже не хорошо» - имело здесь вполне конкретный смысл.
На время пока решался вопрос с назначением нового инженера полка вместо него из управления армии прислали радиоинженера, в чине подполковника. Взвешенное ли это было решение? Вряд ли. Человек прибыл исполнять серьёзнейшие обязанности, не зная в лицо ни одного человека. Правильнее было бы, в этом случае, поручить исполнение обязанностей инженера кому-нибудь из начальников инженерных служб полка, но верховное начальство решило вот так.
Назначение исполняющего обязанности инженера совпало с перебазированием нашей эскадрильи из Кандагара в Шиндант, на основную базу. Он, естественно, прибыл для контроля за данным мероприятием.
Служебное имущество и личные вещи к тому времени уже были отправлены в Шиндант. В комнатах стояли лишь пустые солдатские койки, приписанные к соответствующему жилому модулю. Нам предстояло переночевать на этих койках последний раз, а утром перегнать самолёты к новому пункту назначения.
Ночь сразу не задалась. Поскрипев голой кроватной сеткой и оставив последние надежды заснуть, я отправился искать, чем бы скоротать время? Слабоосвещённый коридор модуля не располагал к разнообразию, однако из комнаты инженера эскадрильи угадывалось оживление. Немного потушевавшись, я осмелился заглянуть туда, и явно никого там не разбудил.
Картина, представшая моему взору, была поистине чудесна. Вместе с дверной щелью, мне приоткрылась щелка в волшебный мир. Стол был уставлен бутылками со спиртом, несчётными банками тушёнки и даже вяленная тарань громоздилась сверкающими барханами.
Джентльмены пили и закусывали. Тонкий налёт тушёночного жира выгодно оттенял древесину крышки стола, кое-где играющую бликами спиртовых лужиц. Недокуренные бычки приветливо выглядывали из жестяных банок развесистыми икебанами. Тараньи чешуйки инеем серебрили ручки железных кружек, рукава и носы джентльменов. Мелодичное чоканье и чавканье нежно бередили сердце, ускоряя волны артериального течения. Сизая вуаль сигаретного дыма покрывала атмосферу чертами таинственности, а сладко скрючившийся под столом инженер соседней эскадрильи источал истому домашнести и уюта.
Наш инженер, уже изрядно принявший на грудь, глядя в мои изумлённые глаза, дружески махнул, приглашая зайти. Моя мятущаяся душа, неосторожно качнулась в сторону внезапно открывшейся долины очарованья и пучина страсти тут же поглотила ея.
Оказалось, с нашим инженером пришли прощаться инженеры эскадрилий других типов самолётов, хотя присутствовало и много наших. Оросив прерии молодого организма огненной водой и восполнив недостаток холестерина, я огляделся. По иронии судьбы рядом со мной сидел новый исполняющий обязанности инженера полка. Он оказался на редкость воспитанным, интеллигентным человеком. Почти не пил, только пригублял. Ел мало. Выражался очень взвешено, обдумано. При этом иногда спрашивал у меня, кто есть кто, поскольку видел многих в первый раз. Фамилии его я так и не узнал. Запомнил только, что зовут его Пётр Павлович. В отличие от Петра Павловича я не скромничал и усиленно налегал на всё, до чего мог дотянуться.

Инженер эскадрильи, восседал как чукча посреди собственного олень- его стада, и пел себе дифирамбы, превозмогая собственную фантазию. Хвалил себя как на похоронах. Одним словом, врал изо всех сил на какие только был способен. С его слов выходило, что войну в Афганистане мы выиграли благодаря исключительно его личной смелости, находчивости, стратегическому таланту и необычайной человечности. При этом он учил всех как надо летать, в том числе и лётчиков.
Тем не менее, народ слушал инженера, как слушают судью во время чтения приговора, и радужно улыбался, не забывая своевременно наливать и дружно тыкать перочинными ножами в банки с тушёнкой. За таким щедрым столом, чего бы не поулыбаться? Разошлись после двух часов ночи, когда инженер уже выдохся и уронил свою стратегическую голову между тарелкой с хлебом и кучей рыбной шелухи.
Раненько утром мы собрались на аэродроме. Карты с прочерченной линией «Кандагар – Шиндант» были заготовлены заранее. Я попал в четвёрку, которую собрался вести Случевский Геннадий Иванович – старший нашей кандагарской группы.
- Пойдёшь на спарке с пассажиром, - сказал он мне.
В переводе это значило, что я полечу на двухместном учебно-боевом самолёте, а в задней кабине у меня будет кто-то неизвестный. При этом Геннадий Иванович страшно сокрушался:
- Как же я с Генкой Бурукиным не простился? Он Гена, и я Гена.
Нехорошо получилось! Столько вместе… понимаешь…
Бурукин – это начальник рентгенотделения местного госпиталя. Но фокус в том, что раньше он служил начальником медицинской службы краснодарского авиационного полка. Считал себя полностью авиационным человеком, и даже теперь не признавал никакой формы кроме авиационной, поэтому продолжал в госпитале носить голубые погоны вместо красных. Познакомил всех с Бурукиным в общем-то я. Ведь он в своё время выпускал в полёт моих отца и тестя. Встретившись на кандагарской земле, у нас завязалась крепкая дружба, которая впоследствии перекинулась на всю авиационную группу. Васильевич много раз выручал нас и практически был членом коллектива.
Мы согласились, что получилось нехорошо: в запарке не успели сходить к Васильевичу попрощаться. Решили уходить на Шиндант не левым, а правым разворотом, чтобы «пройти» над госпиталем. Васильевич непременно должен был понять, что это означает, и, таким образом нам бы удалось немного сгладить неловкость.
- А как пассажир? – спросил я, не представляя о ком идёт речь. – Возмущаться не будет?
- Да он ничего не поймёт, занимайся своим делом, - успокоил меня Случевский.
Подойдя к самолёту, всё прояснилось. Загадочным пассажиром оказался Пётр Павлович. Пользуясь своим временно исполняющим положением, он решил полетать на боевом самолёте. Ну и правильно. Другого случая в жизни может не представиться. Ведь многие техники и инженеры, проработав всю службу на авиационной технике, так и не имели возможности подняться на ней в воздух.
Подойдя к самолёту, я начал принимать доклад от техника самолё- та. Техник в присутствии незнакомого начальства старался сделать всё как можно официальнее. Поэтому получалось растянуто, сбивчиво, но по науке.
Пётр Павлович изменился в лице, узнав во мне того с кем букваль- но четыре часа назад «глушил» спирт, подпирая друг друга локтями. Но быстро справился с собой и спрятал изумление. Понятно, человеку первый раз в жизни предстоит лететь на боевом самолёте, он волнуется, а тут ему подсовывают такую свинью в виде меня.
Мне было интересно наблюдать за ним. Откажется лететь со мной или нет? В принципе сделать перестановку в группе проблем не составляло. Но и Пётр Павлович «лез» в кабину боевого самолёта не совсем законно. В Союзе за такое нарушение его бы самого разжаловали в рядовые.
- Доброе утро, Пётр Павлович, - обратился я к нему, ожидая, протянет ли он мне руку первым, как старший по званию.
- Доброе утро, - вполне спокойно ответил Пётр Павлович и протянул руку.
- Вы готовы? – для подстраховки спросил я.
- Готов, - ответил Пётр Павлович.
Дальше, уже не обращая внимания на чины и былую дружбу, я проконтролировал его посадку в кабину, проверил умение пользоваться переговорным устройством, проинструктировал на случай катапультирования. Затем сам сел в переднюю кабину и запустил двигатель.
После взлёта пошли правым разворотом без набора высоты. Руководитель полётов удивился и пытался возмутиться, но Случевский рявкнул на него, и тот замолк. Развернулись. Взяли курс на госпиталь. Снизились до высоты пятнадцать метров. Скорость не гнали. Обороты двигателей убавили. В общем, предприняли всё, чтобы народ пугать поменьше.
По пути попался жилой городок афганских военных. Ну, звеняте хлопцы. Потерпите. Мы не виноваты, что к госпиталю иначе как через вас не пробраться.
Показались госпитальные домики. Прошли над ними как можно тише, и только потом увеличили мощность и пошли в набор высоты.
В принципе раненные, находящиеся в госпитале, отнеслись к нашему пролёту с энтузиазмом. Народ бывалый, обстрелянный. Это им вроде развлечения среди суровых больничных будней получилось. Поприседали маленько от неожиданности, но это обычная реакция людей на низколетящие самолёты. А санитарки, не в пример, создания нежные. Две на мочевой пузырь оказались слабые, одна на желудок.
Как начальник госпиталя отреагировал на наш пролёт – неизвестно. Но он сразу вычислил Бурукина, и почему-то хромая, прибежал его ругать:
- Это они с тобой прощались! Это всё ты виноват! Из-за тебя бардак такой! Накажу по первое число!
Васильевич, конечно, оправдываться:
- Ну культурные люди завсегда «здравствуйте» говорят, «пожалуй- ста»… и «до свидания»… тоже говорят. Как же без культуры?
А самому приятно. Значит, попрощались с ним. Не забыли. Дружба – она знаков внимания требует.
Набрали мы семь тысяч, и пошли на Шиндант. На этой высоте спокой- но, не болтает. Да и я стараюсь машину лишний раз не трясти. Человекто сзади, мало того, что непривычный ещё и не выспался.
Я к ведущему поближе подошёл. Да как поближе. Над кабиной у него метра два завис. Помахали мы Саньке Крайнову ручкой. Он нам тоже. Потом назад оттянулись. Дал Петру Павловичу самостоятельно самолётом поуправлять. Затем автопилот включили. Посмотрели, как самолёт в автоматическом режиме летает. В общем, развлекал началь- ство сколько мог.
Подлетаем к Шинданту – ядрёна вошь! Стоянка, где афганские самолёты должны стоять вся в огромных чёрных пятнах. Что же это за дизайнеры там упражнялись?
Тут я вынужден несколько прерваться, поскольку тёмные пятна на стоянке тематически не связаны с сюжетом нашего рассказа, и вдобавок требуют массу пояснений совершенно иного характера.

Игрушечная железная дорога
С вводом советских войск в Афганистан в 1979 году началась массированная помощь дружественной стране. Кроме миллиардных вливаний в её экономику, главная помощь заключалась в создании института советников. В первую очередь, естественно, советниками облепили молодую «Народно-демократическую партию» (НДПА). При каждом мало-мальски значимом члене партии, состоял советский советник из числа ответственных работников КПСС, который контролировал мысли, направлял высказывания подопечного, а также систематически отправлял «наверх» отчёты и доклады о собственных наблюдениях и достижениях.
Другие советские советники интенсивно помогали структурам ХАД (контрразведка) и царандой (народная милиция). Поначалу оказывать помощь было весьма затруднительно, ввиду отсутствия самих перечисленных органов, но впоследствии эта проблема была успешно решена. В точно такой же ситуации оказалась Народная Армия Афганистана.
На службу направляли молодёжь до сорока лет, отловленную, как правило, в горах. Бывшим душманам выдавалась военная форма, их кормили и обучали строевой и политической подготовке. Обучением, понятное дело, занимались советские советники.
В случае начала масштабной военной операции указанным военным выдавали автоматы Калашникова и вывозили в район боевых действий. Помощь афганской армии самоотверженно оказывали советские войска.
«Помощь» оказываемая советскими войсками обычно проходила следующим образом. Сначала район предполагаемой операции «обрабатывался» штурмовой авиацией из числа советского ограниченного контингента. Особое внимание уделялось господствующим высотам. По завершении чего той же авиацией минировались тропы, соприкасающиеся с данным районом, дабы исключить возможность, как придти на помощь, так и сбежать из района. После этого в район операции выдвигалась советская группировка в составе двадцати тысяч. Позади группировки везли полк афганской народной армии количеством пять- десят-восемьдесят человек.
По завершении операции военнослужащих Афганистана усиленно фотографировали, с целью показать какие они молодцы, и как лихо они расправились с врагами молодой народной власти. Фотографии помещали в листовки, из текста которых становилось ясно, что непобедимая афганская армия добивает последние остатки приспешников капитализма, по добитии которых в стране неминуемо наступит процветающий социализм.
После группового фотографирования у афганских военнослужащих, не успевших сбежать с оружием, оружие отбиралось. Собранное оружие возвращалось в оружейную комнату, которая представляла собой вторую половину жилой комнаты советника командира полка. Здесь оружие хранилось до следующей операции.
С афганской авиацией дела обстояли получше. Лётный состав запрещалось набирать из бывших душманов. В лётчики принимались исключительно мирные пастухи, виноградари и сборщики опийного мака. За советские деньги они обучались взлетать и садиться на устаревших советских самолётах типа Миг-21 и Су-7 в Краснодарском училище.
Вернувшись после учёбы в Афганистан, новоиспечённые лётчики производили редкие полёты на тех же советских самолётах, заправленных советским керосином.
Какие задачи выполняли афганские лётчики неизвестно, но вполне ответственно можно заявить, что лётный потенциал афганской армии особо не рассматривался и не учитывался. Главным назначением афганской авиации была «демонстрация достижений» афганского народа под мудрым руководством прокоммунистической афганской партии.
Авиационная афганская структура наполовину состояла из советских советников. Оно и понятно. Заставлять пастуха готовить авиационную технику к полёту без должного контроля – запланированное убийство. Естественно, что людям, начавшим к двадцати годам впервые читать по складам, невозможно было в короткие сроки овладеть сложнейшими инженерными навыками. Поэтому афганская авиация по своему устройству и назначению скорее напоминала игрушечную железную дорогу, чем серьёзную военную структуру.
На игрушечной железной дороге есть рельсы, по которым мчатся локомотивы и вагоны, есть туннели, светофоры, станции и даже начальники станций. Только никаких грузов игрушечные составы не перевозят и никуда дальше комнаты не выезжают. А нужна вся эта дорога для того, чтобы маленький мальчик любовался ею в своё удовольствие, когда у него возникнет охота.
Также и с афганской авиацией. Это была игрушка, которую показывали и говорили: «Смотрите, у нас есть своя авиация. Мы очень умное руководство и создаём мощное государство!» Назначение её было чисто прикладное и агитационное.
Поэтому, когда подлетая к Шинданту с Петром Павловичем мы обнаружили тёмные пятна на стоянке самолётов афганской армии, то догадались, что это были следы от сгоревших самолётов, но при этом совершенно не расстроились. Афганистан – была такая прорва куда народные миллионы улькали не оставляя даже пузырей. А руководство КПСС считало, что успешно строит новую неофициальную советскую республику, типа Монголии, но при этом не желало замечать, что одновременно ведёт собственную страну в финансовую пропасть семимильными шагами.
После приземления в Шинданте наши догадки подтвердились. Ночью на стоянке было сожжено девятнадцать самолётов афганской армии: одиннадцать Миг-21 и восемь Су-7. Очевидцы сообщили, что когда самолёты горели, из них регулярно вылетали катапультные сидения, срабатывающие от температуры. Возможно, это придавало зрелищу вид некой торжественности.
Поехали и мы поглазеть на сгоревшие самолёты. «Су седьмые» – просто в горы обугленного металла превратились. По всему видно, что эти кучи когда горели, ещё и булькали. Бульки так и застыли запечатлев навечно «красоту горящего металла». А из «Мигов» кучки поменьше получились, но носы и хвосты у них целые. Торчат из этих кучек, будто запчасти. Выходит Миги огнеупорнее что ли?
- Как же это получилось? – спрашиваем.
Оказывается, афганские часовые, которые эти самолёты охраняли сами и подложили пластиковые мины под топливные баки. Удивительная грамотность. Даже знают где у самолётов топливные баки. Не иначе ЦРУ обучение проводило. Сами охранники к утру во всём сознались и дали показания. К одному уже отец приехал, к другому брат. Готовы вместо них в тюрьме сидеть. У афганцев это не возбраняется.
- А чего же пожарных не позвали? – снова спрашиваем. – Прогорели все до самого основания.
- Так пожарники приезжали, - отвечают. – Только как пожарники?.. Пуштунов наловили, в форму одели, и сообщили, что теперь они пожарниками будут называться. А что при этом делать надо – объяснить забыли. Хотя, что толку? Объясняй, не объясняй…
Ну, здравствуй Шиндант! Спасибо за «горячий» приём. Теперь здесь жить будем.
Володько, Предеин
Со времён Великой Отечественной войны повелось так, что истребители в авиации считаются самыми героическими лётчикамp и и по совместительству самыми умными. Поэтому руководящий состав округов, а порой и дивизий (независимо от их назначения) состоял сплошь из лётчиков истребительной авиации. И никому было невдомёк, что воздушные бои потихоньку сходят на нет, а главная роль в военных конфликтах постепенно отходит к штурмовикам. В том же Афганистане, например, истребители не провели ни одного воздушного сражения, а каждый штурмовик только за день совершал несколько боевых вылетов.
Истребители дальше продолжали ходить с высоко задранными носами, не догадываясь о пробелах в «былой грамотности».
*
Возвращается наш командир с военного совета из Кабула. Злой, как сто чертей. Да, что там злой, бешеный. Собирает лётный состав в классе. Кричит:
- Володько, Предеин!
Те встают. Предеин поскромнее, он глаза опустил, а Володько нет, соколом смотрит. Но такое ощущение, будто оба точно знают, что это с командиром? А командир хватает свою любимую, алюминиевую указку и со всей дури шарах ею по столу. Она загибается, становится похожа на кочергу. Машет этой «кочергой» перед носами подполковника Володько и капитана Предеина, и орёт с остервенением:
- Я сразу понял, какие на хрен семь ракет? Это же семь факелов от осветительной бомбы.
Предеин дальше молчит, а Володько смело так заявляет:
- Так кассеты же мимо легли. Они даже ничего не задели. Но командир пока ничего не слушает и дальше бушует:
- Вы как, вашу мать, оказались в Иране? Вдвоём в одном самолёте сидели! Два взрослых дяденьки не смогли разобраться?!
- Да это на самой границе… Думали Афганистан.
- Думали?! Мать вашу! А почему не доложили?
- Так я же говорю кассеты мимо легли, - опять заявляет Володько.
Понимает что виноват, но виду не показывает.
- Что значит «мимо легли»? – доходит до командира смысл сказанного. – Вы что, ещё и контейнеры на Иран сбросили?
- Так они вместе с осветительной бомбой одновременно сошли.
- Твою мать, - командир ошарашен услышанным, не меньше чем новостями из Кабула. – Вы оказывается ещё и шариковыми бомбами по Ирану нае…нули?!
Предеин ещё ниже голову опустил, а Володько не сдаётся.
- Подумаешь? – говорит он таким тоном, будто только этим всю жизнь и занимался. – По Ирану! В песок там всё ушло.
Командир снова хватается за голову:
- Ты хоть понимаешь, что их применение запрещено Женевской конвенцией? Едит твою… А вы по Ирану… Если их там обнаружат…
- Говорю же в песок ушло, - не сдаётся Володько. – Да нормально всё, командир!
Командир недолго сидит с отрешённым видом, потом спохватывается:
- Так куда кассеты легли?
- Я же говорю, - говорит Володько, - они одновременно с НОСАБом отцепились, поэтому с перелётом улетели хрен знает куда.
НОСАБ расшифровывается: ночная осветительно-световая авиационная бомба.
- Как одновременно? – видать командир уже начал уставать от новостей. - Инженер, почему кассеты вместе с осветительной одновременно отцепились?
Заместитель командира полка по инженерной службе разводит руками:
- Никто ничего не докладывал. У нас не зафиксировано.
Командир, немного выпустив пар, успокаивается. Садится на стул. Швыряет указку в угол. Нам её потом опять разгинать. Тут народ начинает голос подавать, мол, а что случилось? Объясните толком? Чего всех собрали-то?
Командир, ещё немного посидев, начинает официальным тоном:
- Через министерство иностранных дел пришла нота протеста от правительства Ирана. Населённый пункт, на границе с Афганистаном был подвергнут обстрелу ракетами с воздуха, - и снова срывается в сторону Предеина с Володько. - Я сразу понял, что это не ракеты, когда услышал про семь горящих ракет. Это же факела от НОСАБа.
Потом грозит провинившимся кулаком:
- Хорошо, что дехкане факела от ракет не отличают. Инженер вставляет:
- Так каждый факел по миллиону люменов. Тут кто хочешь, перепутает.
Командир смотрит на стоящих Володько и Предеина:
- Что стоите? Рассказывайте, давайте.
Предеин упорно молчит, а Володько начинает пояснять:
- Когда колонну увидели…
- Какую колонну? – опять вскипает командир.
- Да по улице машины друг за дружкой ехали. Фарами светят. Сверху как колонна смотрится.
- Как вас в Иран занесло? – не унимается командир.
- Ну, мы же говорим, увидели колонну. Ну, думаем, враги проклятые оружие духам везут. Туда, значит, и полетели. Вроде рядом. Ночью всё рядом. Хрен его там разберёт Афганистан это или Иран.
- Конечно, - плюётся командир, - ночью по огням видимость тысячу километров. Вы так в следующий раз в Израиль улетите.
- Да мы и сами засомневались, вроде рядом, а летели долго. Ну, зашли сходу, чтобы НОСАБ над целью повесить для освещения. Прицелились. Сбросили. А кассеты вместе с осветительной и сошли. Видать опять цепи где-то не разъединили. Ну и ушли кассеты, с перелё- том километра два, за эту деревню. А факела когда разожглись, тогда мы и увидели, что это не колона, а деревня, и вообще догадались, что это уже не Афганистан.
Командир уже почти спокойно спрашивает:
- Почему, всё-таки не доложили?
- Так, если бы у нас фугас был, тогда местные грохот от взрывов слышали, ямы бы там остались, осколки. А так шарики в песок ушли, кто их теперь найдёт. Главное трупов-то нет. Если бы эти иранские колхозники жалобу не накатали, никто бы ничего и не узнал.
- А теперь во всём мире знают, – почему-то спокойно заговорил командир, - И меня подставили. Я даже не знал, зачем нас в Кабуле собирают.
Молчат Володько с Предеиным. Чуют, вот она развязка. Чем такие дела заканчиваются, никто не знает. Понятно, международный скандал не шутка. Может на самом верху уже их судьбы порешали? Но стоят, выжидают, в глазах надежда. Смотрят на командира, чего он тянет? А он тянет. Спрашивают уже упавшими голосами, даже Володько слегка голову наклонил:
- Что же теперь будет, командир? Командир успокоился. Даже улыбнулся:
- Так в Кабуле одни истребители командуют. Они же в НОСАБах хуже иранских дехканей разбираются. Как зачитали про семь ракет, я сразу им говорю: «Раз с ракетами, значит не наши, мы ночью с ракетами не летаем, мы ночью только с бомбами летаем. С ракетами кто-то другой. Может это истребители ночью с ракетами летают? Вот у них и спрашивайте».
В классе все приободрились. А Володько с Предеиным особенно.
- Так чем закончилось? – в один голос у командира спрашиваем.
- Там теперь командиров двух истребительных полков дрючат. Будут у них документацию перелопачивать, ну и прочее. А остальные командиры по частям разъехались. Мы же ночью с ракетами не летаем. Все запомнили, что я сказал?
Ну ещё бы, конечно запомнили. Тут уж командир может не сомневаться. А командир подумал и ещё спрашивает:
- Не понимаю только, почему иранцы перехватчиков не подняли, когда вы границу пересекли? Дали бы вам «F-16» в жопу ракетой и отскребали бы вас сейчас от скальных напластований.
- Так может и поднимали? – говорят Предеин с Володько. – Мы как поняли, что в Иран запёрлись, та-ак оттуда дунули!
- Ка-ак дунули? – насторожился командир.
- Ну, спустились пониже, форсаж врубили и ушли на сверхзвуке.
- Что, на малой высоте, на сверхзвуке? - опять заорал командир. - А если там кто-нибудь умом рехнулся от вашего пролёта или верблюды доиться перестали? Это же вторая нота протеста придёт. Тогда точно всё вскроется. Я тогда вас сгною! Разжалую! В авианаводчики отправлю! Где моя указка?!
Окончание международной разборки мне неизвестно. Но наш полк по этому поводу больше не трогали.

Буря мглою
Боевой вылет происходил на предельную дальность. «Домой» возвращались на семи тысячах метров и сразу, «с прямой» начали заход на посадку. Топлива осталось только «дотянуть до полосы». Лампочки «аварийного остатка» усиленно мигали. И вот, как всегда в авиации, именно в этот момент поднимается пыльная буря.
Поперёк посадочной полосы потянулись жёлто-коричневые струи пыли. Сначала они стелились по земле, но с каждой секундой утолщались всё больше и больше. Интенсивность бури увеличивалась буквально на глазах. С каждым мгновением в воздух поднимались новые и новые тонны пыли. А пыль в глинистых пустынях, надо сказать, как пудра. Мелкая и лёгкая. Ветерок чуть дунет, она поднимется и висит так целый час. С песком и то легче. Песок тяжёлый. Он только при очень сильном ветре в воздух поднимается. И к тому же долго не висит.
Когда наш первый самолёт вошёл в посадочную глиссаду, высота пылевой массы достигла ста метров. Чем к земле ближе, тем боковой ветер сильнее. Направление «держать» всё труднее. С «полосы» прямо «стаскивает». Пришлось так самолёт на ветер развернуть, что я за полосой уже не в лобовое, а в боковое стекло наблюдаю.
Максимальный боковой ветер для нашего типа, при котором разрешается садиться – 18 метров в секунду, а тут точно все 30 будут.
Из-за того, что плотность бури не везде одинаковая, с большой высоты посадочная полоса ещё как-то просматривалась кусками, и можно было ориентироваться по направлению, но вот когда я «нырнул» в пылюку, видимость пропала совершенно, и стало темно как в сумерки. Чем ближе я приближался к земле, тем становилось темнее.
Мне приходилось летать в облаках и в тумане, но в пыли раньше летать не случалось. Болтанка такая, что уже и на болтанку не похоже. Это уже долбёжка какая-то получается. Если б сопли в носу были, точно бы их по фонарю разметало. Только откуда при сорокаградусной жаре сопли?
Направление снижения определить совершенно невозможно. Но и это не главное. Землю не видно! А как хочется на неё поглядеть, чтобы высоту своими глазами определить. Приборы, конечно высоту показывают, но лётчик в таких случаях приборам не доверяет. Он доверяет своей интуиции. А на высоте меньше десяти метров, по приборам вообще не полетаешь, потому как одно деление на приборе равно как раз десяти метрам.
Приближаюсь я к земле. Интуичу. Хорошо пылюка неоднородная. Где-то просветление. Увидишь кусочек поверхности под собой, сориентируешься.
В обычной ситуации, такую бурю надо или пережидать на высоте, или уходить на запасной аэродром. А когда керосина последнее ведро осталось, некуда тебе деться – только посадка.
Добрался я так почти до земли. Как землю разглядел, не знаю. Хотите верьте, хотите нет, но задница на самом деле чувствует когда ей об землю предстоит удариться. Этот «прибор» тонко реагирует на всякого рода «неожиданности».
Высота метра два, пора полосы касаться, а полосы нету. Точно знаю, украсть её не могли пока я на пыль таращился, а где искать? Выходит, ушёл я с направления, только в какую сторону: вправо или влево? На второй круг бы уйти, но топлива-то нет. Остаётся сажать, а куда?
Вот так, загнала жизнь человека в угол. Шансов никаких. Придётся садиться прямо под собой. Только чревато это очень, ведь в каком направлении самолёт дальше после посадки «пойдёт», неизвестно. Может, в какую постройку врежешься, а может и в топливозаправщик? И сколь- ко ещё при этом людей может погибнуть?
Повезут потом твоё молодое тело в цинковом ящике на Родину. Спишут всё на боевые потери. Родителям сообщат, что погиб, мол, от вражьей пули, как герой. Чтоб не узнали расстроенные родители, каким на самом деле их сынок ослом был. А как же? Раз выбрал профессию лётчика – значит, из любых ситуаций выкручиваться обязан. Тебя насильно никто летать не заставлял.
И тут! Есть счастье в жизни! Чуть поредела пыль и вижу я метров тридцать слева, она родёмая! Взлётная полоса! Краюшек бетонки мель- кнул. Единственный, маленький разочек мелькнул. Только мне больше не надо. Я теперь полосу с закрытыми глазами найду. Никуда она от меня не денется. Вертанул я самолёт против всех правил аэродинамики, да и плюхнулся на полосу. Криво, некрасиво и не по оси. Грубо «стукнул» матчасть об бетонку, у нас это называется – припечатал. Да плевать! Сам жив и самолёт цел! Вот главное!
Тормозной парашют выпускать не стал. Чёрт его знает, что при таком ветре из-за парашюта приключиться может. Или самолёт на полосе не
«удержишь», скатишься куда-нибудь, или вообще кверху брюхом перевернёт. Самолёт – он трёхколёсный, неустойчивый, кульбиты запросто
«исполняет». Это в небе он – дома, а на земле – гость.
Руководитель полётов запрашивает: «Все сели?» Все докладывают:
«Сели». Он кричит радостно: «Молодцы! Настоящие пилоты! Спасибо». А чего не радоваться? Если бы не все сели, ему бы минимум звезду с погон сняли, а в худшем случае – трибунал.
Тут, видимо инженер на СКП прискакал и орёт в эфир, чтобы двигатели выключали. Авиационный двигатель – штука хрупкая. Любая песчинка на лопатках компрессора борозду оставляет, а мелкий камешек способен разнести его вдребезги. Если загинет от пыли сразу четыре движка, это поносу потом на всю воздушную армию. Остановились мы кто, где в это время находился. Я последний садился, поэтому стал прямо на полосе. Заглушил двигатель. Всё равно не видно куда рулить.
Сидим в кабинах. Они герметичные. Нам буря до лампочки. Жарковато, конечно, зато пыль на зубах не скрипит. Минут через тридцать буря стихла. Снова стало вокруг видно. Приехали тягачи, подцепили нас и отбуксировали на центральную заправочную. Руководитель полё- тов туда прибежал. Радостный всё ещё. Руки жмёт. Целоваться лезет. Рассказывает, что переживал сильно.
- Как сели? – снова спрашивает.
Я думаю, рассказывать правду-матку как сел или промолчать? Слышу остальные, так негромко:
- Нормально сели.
И скромно свои ботинки разглядывают. Значит, думаю, не хуже я остальных. Руководитель полётов хвалит нас, на чём свет стоит:
- Молодцы, - кричит, - настоящие воздушные мастера! Не каждый, мол, в такую бурю справится.
И ко мне. По плечу бьёт, шевелюру треплет и про посадку интересуется.
Почесал я за ухом и повторяю как все:
- Нормально.
Чего уж скромничать? Мастера, так мастера.
Караван
Взлетели на разведку с утра. Подхалюзин впереди, я у него ведомый. Сергей Иванович на пяти метрах от земли упражняется. Сзади только пылюка вихрями закручивается. Кто не знает, что это самолёт над пустыней летит, может подумать, что это глиссер по водной глади шпарит. Я повыше сзади плетусь. Скорость не маленькая, около тысячи. Страшновато на такой скорости к земле вплотную прижиматься. Не все же асами рождаются.
А Сергей Иванович мужчина серьёзный. Тот всё может. Что летать, что работать, что водку пить. Талантливый человек талантлив во всём. Стожильный он. Возрастные лётчики его «Сеней» кличут. Мы между собой тоже Сеней называем (за глаза, конечно).
Прыжок. Подскакиваем на 300 метров. Осматриваемся. После бешено несущейся навстречу земли на этой высоте всё как бы замирает. Такое ощущение, что самолёты зависли и «стоят» на одном месте. Несколько секунд осматриваемся. Вокруг скалы, глина, да лазурь поднебесная. Больше ничего интересного. Опять уходим вниз на «предельно малую».
Всё время на трёхстах метрах лететь опасно. На такой высоте запросто из обычного «Бура» сшибить могут. А на предельно малой обычно не успевают, зато обзор с гулькин нос. Видно не больше, чем простому пешеходу. Так ничего не обнаружим. Зачем летали, спрашивается? Вот и скачем как лягухи по болоту.
Прыжок. Справа километра три что-то есть. Пустыня светлобурого цвета, но однородная, поэтому даже небольшая разница в цвете сразу бросается в глаза. К тому же тень в пустыне особенная – абсолютно чёрная, непроницаемая. Тень от предметов видно намного дальше самих предметов. Наверно, из-за того, что солнце здесь слишком яркое.
Сеня заламывает вираж и падает на предельно малую. На такой высоте самолёты обнаруживаются только в последний момент. Это важно. Если раньше заметят, то могут «встретить». Проходим рядом с караваном метров пятьдесят слева. Верблюды, лошади, повозки. Мужчин мало. Женщины в паранджах идут рядом с повозками. Никто не смотрит в нашу сторону. Головы опущены вниз. Скорее всего людям страшно и они молятся. Только верблюды дёргают мордами от рёва двигателей.
Это караван «мирный». Такие караваны «трогать» нельзя. Отваливаем. Сеня направляет пару на солнце. Ведь влупить в задницу «Блоу Паб» с любого каравана могут, в том числе и с мирного. А разбираться потом с кем? Караван-то уже уйдёт.
«Уход на солнце» - уникальная защита. Прицельно стрелять из стрелкового оружия против солнца практически невозможно. И ракета «земля-воздух» с тепловой головкой наведения непременно перенацелится на солнце вместо сопла самолёта. Солнце для штурмовиков первейший помощник.
«Рыскаем» ещё минут сорок. Есть! Опять тёмная цепочка. Надо же! То бывает, за всю разведку ни одного каравана не встретишь, а сегодня уже второй.

Проходим рядом с караваном. Он слева. Молодец Сергей Иванович. Мне ведь не только караван рассмотреть необходимо, мне ещё самолёт ведущего из виду упускать нельзя. А лётчик так устроен (поскольку правша), что ему удобнее своего ведущего всегда слева наблюдать, там же, где и караван. Иванович, оказывается, всё знает, обо всём думает. Да и подкрался незаметно, опять молодец.
Караван не в пример прошлому, совсем другой. Верблюдов штук сорок. Людей почти столько же. Одни мужики. Автоматы через плечо – не успели снять. Поздно нас заметили. Верблюды вьючные. Повозок нет. Значит, в горы идут. Все мешки на верблюдах серые, одинаковые. Так обычно оружие возят. Душманы, стало быть.
Сеня командует: «Максимал». Я двигаю рычаг управления двигателем вперёд до отказа. Отходим с набором высоты. На случай непредвиденной ракетной атаки, отстреливаем тепловые ловушки. Сеня строит маневр типа «Лассо». Только это не «Лассо». Не предусматривала официальная советская тактика маневров против караванов. Поэтому и названия у него нет. Но мы, собственно, и без официальной тактики разберёмся.
Маневр надо выстраивать так, чтобы потом боевой курс точно совпал с направлением каравана. Иначе эффективного удара не получится. Работаем по одному. Я оттягиваюсь на маневре подальше. Если плохо оттянуться, можно по ошибке Сеню своими же ракетами зашибить (и такое в авиации случалось).
Пока разворачивались, чтобы караван снова в поле зрения попал, секунд тридцать прошло. На месте он. Ну и дураки караванщики. Рванули бы к какой-нибудь скале и встали в тени. На таком солнце в тени ни черта не разберёшь. Хрен бы мы их тогда нашли. Или в рассыпную кинулись. Глядишь, хоть половина бы в живых осталась. Но нет. Идут, как шли. Тогда звиняйте, хлопцы!
Сеня вышел на боевой курс, свалил в пикирование. Секунд через десять к земле протянулась огненная полоса. У Сени всего два блока, т.е. шестьдесят четыре ракеты. Ему ведь ещё разведконтейнер с фотоаппаратурой привесили. Поэтому блоков всего два. Да и ракеты у нас мелкого калибра – пять сантиметров. Наклепали их во время «гонки вооружений» без счёту. Давно уже другие есть, современные, но эти куда девать? Вот тратим теперь, как лимиту в конце квартала.
Накрыл караван Сергей Иванович чётко. От хвоста до носа. Этот умеет. Чего уж там. Пришёл мой черёд. У меня четыре блока, т.е. ракет в два раза больше, чем у Сени. Хотя после него вряд ли столько нужно.
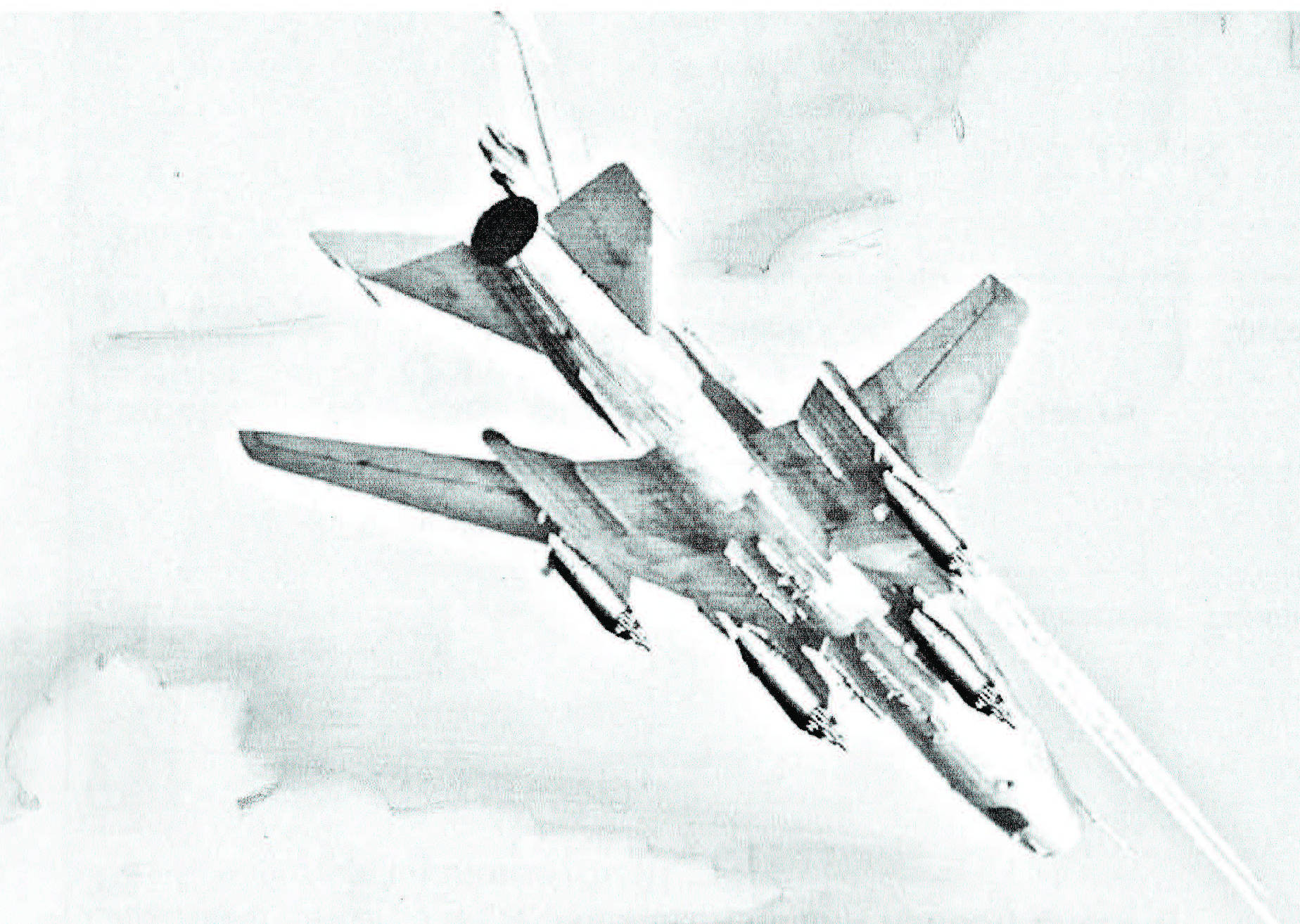
Перепахал и я полоску в пустыне, где Сеня до меня пыль поднял. Сто двадцать восемь осколочных ракет. Вряд ли после такого можно выжить. Но, прежде чем сфотографировать, делаем ещё один заход – из пушек. Бережёного Бог бережёт.
Сеня «пошёл» фотографировать на высоте 300 метров. Я отошёл подальше и внимательно наблюдаю за землёй, чтобы предупредить в случае начала обстрела или пуска ракеты. Фиксируем результаты.
Рискованный трюк – над караваном летать. Если кто живой остался, пальнуть может. Но, что сделаешь. Социализм – это, блин, «учёт плюс контроль». Без отчётности никуда. Поэтому приходится возить с собой эту дуру – разведконтейнер, и фотографировать, что наделали.
Резко набираем высоту три тысячи. В процессе набора появляется радиосвязь с аэродромом. Сергей Иванович сообщает координаты каравана, точнее того, что от него осталось. Теперь пусть профессиональ- ные разведчики вылетают туда на вертолётах и разбираются кто, куда и зачем. На трёх тысячах следуем «домой». На этой высоте спокойно. В пустыне зенитных и ракетных засад не бывает. Такие явления в горах процветают. А в пустыне им прятаться негде. Мы такие засады обнаружим раньше, чем они нас.
*
Некоторые лётчики после удара по каравану имели привычку пролететь над ним ещё раз «на бреющем», чтобы вплотную поглазеть на свою «работу». Мы такого старались не делать. Пока человек воюет – он впадает в определённое состояние, в котором чужая жизнь, и даже своя собственная теряют настоящую стоимость. Поэтому вид разорванных людей воспринимается притуплено, без сильных эмоций. Но, когда после войны начинаешь оттаивать, все эти картины возвращаются уже в их истинном цвете, и тебе нечем от них отгородиться. Это ещё выдержать надо. Поэтому лицо войны не может привлекать нормального человека. Грязь, перемешанная с кровью и изуродованные трупы людей (хорошо, если взрослых) – вот настоящее лицо войны! Всё остальное – возня.
Как-то, уже после двухтысячного года, на совещании в администрации города, посвящённом патриотическому воспитанию молодёжи, выступала директор школы. Она рассказывала ветеранам Великой Отечественной войны о том, как у себя в школе решила представить детям войну с человеческим лицом. Для этого она усиленно пропагандировала историю о любви немецкого солдата и русской девушки. Ей почему-то непременно требовалось очеловечить лицо войны.
После её доклада я тоже выступил и спросил, не пробовала ли она представить школьникам сифилис с человеческим лицом? К любви опять же ближе. Она обиделась. Ведь хотела как лучше. Старалась. Однако я себя виноватым не считаю. Разве было бы лучше, если бы я при всех спросил:
- Ты что же, дура, не понимаешь к чему человечье лицо собралась приделать?
Форсаж
В горах бомбить нужно вдоль ущелий. Тогда горы остаются по бокам и совсем не мешают. Они в этом случае вроде есть, а вроде их нет. Но случается иногда такая дребедень, как «Т» образные ущелья. Т.е. одно ущелье упирается в другое. Впрочем, автолюбители вполне должны понять о чём идёт речь. Атака в этом случае происходит «в лоб» горе, а после вывода из пикирования эту гору необходимо перемахнуть. Потому как, если этого не сделать, то придётся с горой «поцеловаться», в самом худшем смысле данного слова.
Готовясь к такому полёту, мы по-дружески предупреждали друг друга:
- Ты же смотри там!
- Ага, ты тоже смотри, - отвечал предупреждённый. Начальство тоже озабоченно предполагало:
- Если они на высотах зенитки установят, амбец нам.
- Может высоты обработать? – учтиво спрашивало начальство поменьше.
- Да как же шеститысячники обработаешь? – отвечало озабоченное начальство. – Разве только дустом посыпать?
Но зенитки то ли будут, то ли нет, а вот с горой «поцеловаться» опасность реальная. Высокая она и стоит прямо по курсу вывода из пикирования. Тут каждый репу втихомолку чешет.
В общем, пошли налегке. Взяли только по две тонны. Зенитки нас, кстати, ещё задолго до ущелья встретили. Стало вокруг нас пространство облачками обрастать. Самих снарядов не видно, а когда они разрываются, то образуются облачка. Вот и начали вокруг нас эти облачка, как по-щучьему велению плодиться.
Высоту, главное, нашу точно вычислили. Видать инструктора американские считали. Но, благо, стрелки местные – афганские. Рассыпались мы, естественно. Высоты срочным образом добрали. Огляделись. Нормально. Никого не зацепило.
Вот и слушай потом бравады об изобретательном русском народе. А как эти умудрились порядочные зенитки в горы затащить? Мы ведь на восьми тысячах шли. Стало быть, есть умельцы не только в русских селеньях.
Подошли к ущелью. А пришло нас аж двенадцать штук. Целью был опорный пункт душманов. По-нашему «Осиное гнездо» называется. Оружия там видимо-невидимо. Да и место удачное подобрали. Самолётам здесь не развернуться.
Работать начали сходу. Первый отработал. Второй, третий. Духи нас заприметили своевременно. Видать у них воздушные наблюдатели имелись. Начали они по нам палить. Похоже, всё, что у них под рукой из стреляющего было, начало стрелять. Трассеров из этого ущелья в морду несётся, как из Кремля на День Победы.
Настал мой черёд. Захожу, как положено. Прицеливаюсь. Трассеров вокруг сотни, но отвлекаться на них нельзя, прицеливаться надо. На трассеры во время прицеливания обращать внимания не положено. Вроде нормально прицелился. Подошла высота сброса. Нажал «сброс».
Ёперный театр! Не отцепились бомбы. Забыл предохранение снять. Вот, блин, отчудил...
Вывожу из пикирования, ручку на себя до пупа тяну. Только валится вниз моя машина. Она ведь по расчётам уже на две тонны должна легче быть. А гора передо мной растёт себе в размерах. Наверное, глаза у меня тоже идентично с той горой увеличивались. Что-то надо делать, думаю. А что делать? Надо форсаж включать. Пусть вытягивает, родимый.
Врубил форсаж. Жду привычного толчка в зад. Жду. Жду. Нет толчка. Глянул мельком в перископ, а позади меня белый шлейф изгибается. Форсаж не разжёгся, вот топливо и хлыщет: ведро в секунду. В авиации всегда так: если какая хренотень началась – то уже всё одно к одному. Но форсаж не разжёгся – это ещё полбеды. Теперь ведь реактивные створки сопла открылись. Так положено. Иначе форсажом у самолёта хвост оторвёт. Тяга на 70 процентов упала. Стало быть, вместо форсажной тяги, у меня теперь вообще никакой.
Мужики мой топливный шлейф заметили, но не разобрались что это.
Подумали, что в меня трассер всадили. Петька Литвинов в эфир орёт:
- Горишь, Олег!
Да не горю я, Петя. В гору я со всей дури лечу. И неизвестно, что хуже? Вот и думай – дальше машину тянуть или катапультироваться пока время есть? Нет, катапультироваться – это последнее дело (во всех смыслах). Выключил я бесполезный форсаж. Двигатель на максимал засунул. Как створки в нормальное положение вернулись – пошла тяга!
Ближе к горе, смотрю, а не ровная она. Порепанная вся. Начал выискивать трещину поглубже. Бочком туда. И всё на себя тяну. А скорости уже нет. Угол набегающего потока к закритическому подходит. Чуть перетянешь, самолёт в штопор завалится. Нельзя теперь на себя сильно тянуть.
Дошёл я до горы. По трещине уже иду... Вроде нормально. Вроде проскакиваю. Фу-у-у. По самой кромочке, а проскакиваю. Какие на хрен зенитки? Если б тут какой дехканин в меня случайно мотыгой запустил, сбил бы к чёртовой матери. Благо дехкане с мотыгами на этой высоте не гуляют.
Вот и вершина. Теперь наоборот ручку от себя отдаю. Скорости совсем нет, а я ещё двумя лишними тоннами беременный. Так это хорошо – всего по две тонны взяли. Налегке пошли. Если бы по четыре взяли улькнул бы я в ущелье, як каменище в болото, и точно бы уже оттуда не выбрался.
А самолёт уже начал самопроизвольно покачиваться с крыла на крыло. Предштопорное состояние. Но теперь-то плевать. Теперь подо мной следующее ущелье, что за этой горой долбанной. Теперь вниз, сколько хочешь лететь можно. Хоть пять километров. Разогнал со снижением скорость, перешёл в набор.
А наши уже заканчивают. Пристроился я к штурмовому кругу. Снял предохранение с цепей сброса. Зашёл на цель, отработал. Влупил обе тонны куда положено. Собственно, как бы и всё.
Потом, уже на земле народ интересуется: что же это у меня из задницы так сильно коптило. Рассказал, что форсаж не разжёгся. Поведал, как дальше выкарабкивался.
- Надо было сразу предохранение снять и весь лишний груз сбросить,
- советуют.
Конечно, задним умом мы все крепкие. Если кому посоветовать, я бы точно так же посоветовал. А вот когда в воздухе припрёт…

Морозов Ваня
Наш командир полка имел особенность долго принимать решения по любому поводу. Был за ним такой грешок. Поэтому даже когда мы вернулись из Афганистана на родимую землю (а вернулись мы в Грузию), среди нас ещё не было ни одного, имеющего боевые награды. После долгой раскачки командир, конечно, отправил представления на ордена, но уже под самый занавес «командировки».
Прошло четыре месяца после нашего возвращения, тут и начали
«приходить» первые награды. Лётный состав в основном награждали, орденами «Красной Звезды», а себе и Паше Гинцу командир выписал по ордену «Красного Знамени». Это очень высокая награда того времени. Выше её был только орден «Ленина». Но в отличие от остальных орденов, орден «Красного Знамени» висел на подвеске, и, соответственно, носился с левой стороны, где обычно носят медали.
Поэтому когда первые награждённые возвращались домой после торжественного награждения, жена Паши Гинца была поначалу очень недовольна.
- Всем ордена дали, а моему медаль! Он что, хуже остальных, что ли?
Паша вместо того, чтобы жену успокоить подзадорил:
- Молчи лучше! Будешь так орать, и эту отберут.
Но ничего. Когда Ольге растолковали что к чему, она успокоилась, а в конце даже обрадовалась.
Дальше начали наш полк расхваливать, в пример ставить. А как же. Полк с боевым опытом. Надо же молодёжь на живых примерах воспитывать. Велели списки участников боевых действий в округ подавать, как победителей соцсоревнования. По категориям: лётчик, старший лётчик, командир звена и т. д. Я уже тогда командиром звена стал и секретарём партийного бюро эскадрильи. Ну, естественно, по блату впиндюрил в список своего старшего лётчика Ваню Морозова.
В парткоме уже общую «простынью» готовили, за весь полк. Солдатик
-писарь каждого человека расписывает: звание, должность, возраст, поручения и т. п. Дошёл до графы партийность и ставит Ване «Б/П». Беспартийный значит. Секретарь парткома покачал головой:
- Ты, что милай карябаешь? Глаза разуй! Разве лётчики Б/П бывают? Солдатик проверил ещё раз и секретарю парткома показывает, вот мол, что дали, то и переношу в общий список. Посмотрел секретарь парткома сам. Да, бардачина. Какой же это идиот лётчика в списках беспартийным указал? Всё самому проверять нужно и за всех переделывать. Прогляди он, так и пошёл бы в округ победитель соцсоревнования беспартийным. Сколько бы потом вони из-за такой опечатки поднялось?
Открыл секретарь свою красную книгу, сидит, листает. Всё перелистал, нету Вани. Вот те раз?! Да тут дело глубже. Выходит и у него в документации тоже бардак. Полистал он ещё, потом ещё. Ничего от Вани у себя не обнаружил.
Сообразил тогда секретарь, значит, Ваня всё ещё в комсомольцах числится. Непорядок! Ваня-то уже не молодой. Давно пора в партии состоять. Тем более в Афганистане воевал. Какой пример молодёжи?
Вызывает секретарь полкового комсомольца:
- Где там у тебя Морозов числится? Тот сходу выпаливает:
- Нет у меня такого комсомольца.
- Ты что несёшь? – грозит ему секретарь. – Быстро все свои списки на стол!
Тот приносит. Садятся вместе листать. Листали, листали – нет такого комсомольца. Солдатик /p/pдавешний ехидно спрашивает:
- Значит, правильно я его в беспартийные записал? Раз он ни там, ни там не числится.
А секретарю pне до шуток. Что за наваждение? Ни в партийных, ни в комсомольских списках Вани нет. Не может же такого быть. Тут секретаря крамольная мысль посетила: вдруг Ваня и правда беспартийный? Если такое правда, то это ЧП неизвестно какого масштаба! Такого с командирами экипажей ядерных ракетоносцев в истории ещё не случалось.
Пробегает мороз у секретаря между лопаток. Видно не зря всё это с человеком по фамилии Морозов происходит. Бежит он к замполиту полка. Так и так. Не могу выяснить где ошибка. Но надежды пока не теряет.
Вызывает замполит начстроя:
- Личное дело Морозова ко мне на стол.
Приносит начстрой дело. Открывают. Точно! Беспартийный Ваня. В Афганистан комсомольцем уходил, а там ему 28 годков стукнуло. Вот он автоматически из комсомола и выбыл по возрасту. А в Афганистане кому интересно было партийный ты или нет? Там такой хренотенью не занимались.
Замполит говорит:
- Нужно в дивизию докладывать. Секретарь ему умоляюще:
- Сегодня же кандидатскую карточку выпишу, никто не узнает.
- Нет, - говорит замполит, - а если узнают? Тогда ещё хуже будет. Ты меня на воинские преступления не толкай. В дивизию доложим, а там пусть что хотят, то и делают.
Умнее этого ничего придумать не удалось. Доложили. А начальник политотдела дивизии в командировке оказался. За него исполняющий обязанности сидит. Обрадовался исполняющий обязанности. Тут же хватает трубку и криком в политуправление округа сообщает, мол, тружусь непосильно, проявил бдительность, лично обнаружил беспартийного лётчика! Какие будут указания?
Те естественно тоже опешили, но делать что-то надо. Посовещались, указывают:
- Лётчика от полётов отстранить. Назначить расследование. Виноватого в этих безобразиях обнаружить и фамилию сюда подать. Будем решать через чего его казнить надлежит.
Вызывают замполит полка и секретарь парткома к себе придурка, который Ваню не подумавши в списки включил, то есть меня:
- Как могло случиться, что у тебя лётчик беспартийный?
А я ни сном, ни духом. В голове только одна мысль: «Чёрт меня дёрнул Ваню собственной рукой в этот список записать».
- В общем, так, - говорят мне – Самым виноватым в этой истории назначаем тебя. Ты у Вани командир, ты же и секретарь партийного бюро. Что с тобой за это сделают, нам то неведомо. Но чтобы как-то ситуацию сгладить, срочно беги, Морозова за шкирку хватай, пусть заявление, автобиографию и анкету пишет. Вечером партсобрание по приёму в партию проведём и на парткоме утвердим. Ване карточку «кандидата в члены КПСС» сегодня же выпишут. Иначе не только по тебе, но и по нам самим персональные дела заведут.

Бегу я быстрей. Хватаю Ваню за шкирку. Сую ему чистые документы:
- Заполняй, Иван, быстрее!
И тут он мне отвечает (кто в то время не жил, судьбоносности его фразы не оценит):
- Да пошли они в жопу со своей партией! Я, конечно, думаю это шутка и говорю:
- Ты так Ваня не шути, вдруг кто-нибудь услышит. А он, как ни в чём не бывало, продолжает:
- И пусть слушают. Пошли в жопу!
- Ты охренел, что ли, - кричу – вечером партсобрание намечено по приёму тебя в партию.
А он мне:
- Не отстанешь, и тебя пошлю.
Остолбенел я. Ведь он на полном серьёзе говорит. И как дальше быть, совсем не представляю. Не было ещё такого. Что теперь с ним будет неизвестно? А ещё интереснее, что со мной будет? Вернулся в партком, рассказываю. Они не верят:
- Ты нам тут антисоветчину не разводи, не мог советский лётчик отказаться от вступления в коммунистическую партию.
- Идите, - отвечаю – и сами спросите.
Пошёл секретарь парткома, поговорил с Ваней. Возвращается красный весь. Кидает мне на ходу:
- Трындец тебе!
- Спасибо, - говорю – за заботу.
Ваню от полётов отстранили, меня тоже. В воздухе грозой пахнет, а Ване хоть бы хны. Не пишет, стервец, заявления, не заполняет анкету.
А тут, гадский потрох, горбачёвская Перестройка в разгаре. Все политрабочие с высунутыми языками бегают. Не поймут чем партию ублажать? Как назло в это же время спускают сверху циркуляр: подать списки офицеров, которые уже на второй этап перестройки перешли, а какие ещё несознательные и остались на первом? Доложить, стало быть, по всей форме кто гласность, ускорение и госприёмку нарушает. Нас, конечно, с Ваней в списки первыми. И из победителей соцсоревнования, соответственно, к чёртовой матери.
Но и политрабочих тоже пожалеть можно. Следом приказывают подать списки неблагополучных семей. Тут они головы уже всерьёз чесать начали. Есть от чего волосы подёргать. Секретарь парткома, не стесняясь, замполиту полка при всех кричит:
- Кого мы в эти списки включать будем? Как определить, благополучная семья у офицера или нет? Клеветой попахивает!
Замполит ему:
- Ну давай подадим тех у кого взыскания за пьянку имеются. А секретарь:
- Если человек по пьянке залетел разок – при чём здесь его семья? Да и за пьянку в основном холостяки страдают.
Отказался секретарь такие списки подавать. По всему видно его от этой Перестройки сильно типать начало. И даже начальнику политотдела дивизии нахамил. Тот ему:
- Почему списки неблагополучных семей вовремя не подали? А секретарь:
- Нет у нас таких! Благополучные все! Начпо:
- Как так нет? Изыскать! Партия приказывает – значит надо найти! Совсем секретарь разошёлся:
- Тогда меня первым пишите. Начпо опешил:
- Как тебя? Ты же партийный секретарь.
- А вот так! – кричит секретарь. – Дома не бываю! Всё время на службе торчу! Уроки у детей не проверяю! Жене не помогаю! Разве это семья? Меня пишите!
В общем у политрабочих жизнь тоже не сахар. А тут Ваня ещё на партию принародно забил. Совсем у них чёрные времена настали. Такое ЧП!
Приезжает по Ванину душу сам член военного совета авиации Закавказского округа. Целый генерал. В те времена слово «член» звучало пугающе не только для молоденьких девушек, но и для взрослых дяденек. Члены только в направляющих органах имелись – в партийных. Остальные органы, исполнительные там или законодательные направляющим в подмётки не годились, поэтому членами в них и не пахло.
А члены были головами этих направляющих органов: «член политбюро», «член ЦК компартии республики» и т.п. И не было счастья в Советском Союзе большего, чем обрести в анкете слово «член». Всем очень хотелось стать членами. Потому как не мог быть человек по-настоящему счастливым, пока его членом не обозвали.
Член – это уже не просто человек. Да и вообще уже не человек. Вроде руки, ноги на месте, голова (про голову это я зря), а уже не человек, уже член. Такой в этом большой и толстый смысл имелся. И, если стал ты членом, значит, жизнь твоя удалась, и не зря ты её прожил. А страшнее и гаже ничего на свете не было, чем из члена снова в человека превратиться. Не каждый мог такое вынести. Бывало, стрелялись.
Так вот замполиты из зависти тоже себе члена ввели. В полках были замполиты, в дивизиях начальники политотделов, а в округе уже не просто замполит или начальник, в округе был «член военного совета». Вот как из зависти замполиты себя обозвали.
Поэтому командующий округа не спрашивал: «Где мой замполит?», а спрашивал: «Где мой член?» И все сразу понимали, о какой мощной фигуре идёт речь.
Вот в гарнизон и прибыла такая мощная фигура. Для гарнизона, конечно, чрезвычайное положение. Солдат постираться заставили. Асфальт до дыр мели и казарму всю ночь белили.
Собрали потом «на высоком ковре» местное начальство, и меня не без задней мысли туда с собой взяли. Ну и сразу, чтобы время зря не тратить вперёд всех и выставили. Притихли все. Глядят члену в рот, не шелохнутся. Это в армии порядок такой на генералов смотреть: мы типа ослов здесь собрались, а он, стало быть, Эрос Рамазотти.
Дырявит меня член высокоморальным взглядом, потом наставитель- но так спрашивает. Голос у него оказался гнусавый и такой тоненький, что я часом засомневался, не кастрат ли он. Уж так этот голос его членов образ портил.
- Это и есть тот командир, который подчинённых воспитывать не умеет? А может, не желает? Не хотят его лётчики в коммунистическую партию вступать. Надо же до такого докатиться!
Хотелось этой гнусавой роже возразить:
- Слышь ты, член с бугра, в партию вступать дело добровольное! Аль не слыхал?
Но это всего лишь хотелось. Мало ли кому что хотелось. На деле моя речь другого касалась, и речь моя пламенная в корне отличалась от желаемой. Лилась моя речь про то, что работаем мы не покладая рук, себя не берегём, ведём среди Вани разъяснительную работу, политику партии родной доводим поминутно, с несознательностью Ваниной боремся всесторонне, вину свою чуем страшно и каемся до жути.
Выслушал член меня, покривился, не глядя на приятные слова, и комэске моему кивает:
– Вы там разберитесь. Ставите на должности неизвестно кого, – и к секретарю поворачивается. - А секретарь партийного бюро эскадрильи где? Почему не пригласили?
Секретарь парткома в меня тычет:
- Так он же и есть у них там секретарь.
Помолчал многозначительно член с генеральскими погонами. Поднял ко мне суровый взгляд. Потом палец в мою сторону направил, как на игуану в зоопарке, и пророчески, так прогнусил:
- Вот оно в чём дело. Вот где корень зла скрывался. Да-а, с такими офицерами мы коммунизм никогда не построим!
Комэск с замполитом кивают, что есть мочи. Мол, правда Ваша, товарищ член. Из-за него всё. Из-за этого нехорошего человека. Взрастили гадюку на своей груди, пригрели. Ошибочка вышла. А сами трясутся, что бы генерал у них не спросил:
- А куда сами-то смотрели? Чего всё на «маленького» киваете? Вы-то вроде больше него виноваты?
Ведь если он так спросит, то и они тоже коммунизм строить не будут. И вместо светлого будущего останутся со мной в тёмном прошлом. А в тёмном прошлом ни тебе новых должностей, ни очередных званий. Коммунизм строить – оно приятнее и заметно выгоднее.
Посмотрели все на меня осуждающе, да и выставили за дверь. Сами долго совещались. Потом передали: член ещё два дня сроку дал. Если через два дня Ваня партийным не станет, то вместе с беспартийным Ваней в полку много новых беспартийных появится. Заполнил я за Морозова анкету, написал заявление. Хожу за ним по пятам:

- Подпиши, Ваня. Тебе ведь только чиркнуть осталось. Пойми, если не чиркнешь, стройка коммунизма без меня уйдёт. Тебе ведь и карточку кандидатскую уже выписали.
Упёрся Ваня. Нет и всё. Там-то и там-то я вашу партию видал. А второй день на исходе. Начальство на ушах. Решают, как быть? От полётов Ваню отстранили, но зарплата та же. Ходит он поплёвывает, ему так даже лучше. С лётной работы снимать? Официальных оснований нет. Партия конечно направляющая сила, но, как и церковь, от государства отделена. С должности снимать? Тоже не за что, да и особо некуда.
И как народу объяснять опять же? Ведь Ваня военный лётчик первого класса, награждённый, ветеран Афганистана. А народ уже Горбачёвского словоблудия хлебнул. Перестройку обсуждает. Пугает начальство гласностью. Даже начали высказывать мнения, что Ваня сам вправе решать вступать ему в партию или нет. Правда, мнения пока только кухонные, но сигнал нехороший. Если про такой сигнал на самом «верху» узнают, то даже нашему «члену» не поздоровится.
Ситуация тупиковая. Полковое начальство молчит, насупилось. Дивизионное тоже «на дно залегло». Стрелочник имеется – в смысле я. Но меня после. А пока непонятно, что с этой «беременностью» делать.
Наконец округ «разродился». Вызывают Ваню в отдел кадров и предлагают:
- Если вступаешь в партию, поедешь в Германию службу проходить.
А послужить за границей мечта любого военного. Тем более в Германии. Цивилизация. Двойной оклад опять же. Обнимает Ваня начальника отдела кадров и радостно говорит ему:
- Раз Германия, то хоть в партию, хоть в говно готов вступить. Всё подпишу, давайте.
Вступил Ваня в коммунистическую партию и укатил в соцлагерь почти уже капиталистический, вместе с ними «загнивать». А мы в Грузии остались «всадников Гамсахурдии» дожидаться.
Народ, когда про это узнал, сильно подохренел. Как же это получается? Кто-то в партии, можно сказать, тысячу лет мается, и ни тебе Германии, ни вшивой Польши, ни даже Монголии. Гний себе дальше в Закавказье вроде салтыковского Трезорки. Что же это получается? Получается нас за придурков держат? Начал народ ситуацию осмысливать. Оказалось точно. За них и держат. Но как ясность проступила, так народ и успокоился. Оказывается главное – это ясность. Неизвестность народ будоражит. А как ясность наступает – он успокаивается.
Потом, конечно, нашлись мудрецы. Ходили к начальству с ультиматумом: если их в Германию не отправят, то они из партии демонстративно выйдут. Только в итоге из партии никто не вышел и в Германию больше никого не отправили. Но и беспартийных лётчиков тоже больше в частях не встречалось.
Страсти идеологии
С детства я воспринимал окружающий мир совсем не так как остальные. Случается рождаться на свете таким нелепым людям. Испытывал ли я от этого радость и удовольствие? Напротив. Всегда всё заканчивалось обидами, недовольностью и надутыми губами.
Я к примеру очень любил сладкое. Но в то время наука твердила, что сахар неимоверно портит зубы. Поэтому родители всячески оберегали мои зубы и меня самого от конфет. Вместо сладкого в меня пытались залить какую-нибудь сметану, кефир или хуже того ряженку. Меня ужасно воротило от этих кислых продуктов, но в меня настойчиво впихивали их, утверждая при этом, что они страшно полезные.
Хотя дело не в том, полезные они или нет. Приехав на лето к бабушке в деревню, я к своему ужасу узнал, что людей любящих сметану и кефир в деревне называют сластёнами. В моей детской голове никак не укладывалось, за что же человека, давящегося этой кислятиной, обзывать сластёной? Это же неправильно!
А в один прекрасный день (именно это был прекрасный солнечный день) меня посадили перед стаканом кефира и предложили выпить его сначала по-хорошему. Я, естественно, наотрез отказался. Тогда мне поставили условие: пока не выпью – гулять не пойду.
За окном светило ласковое солнце. Пацаны вовсю гоняли в «пекаря» (разновидность лапты). А я сидел над ненавистным стаканом кефира (я, кстати, до сих пор не могу терпеть кефир) и внутренне изнемогал от борьбы между улицей и противной кислотной гадостью. Я всей душой ненавидел стоящую передо мной зловонную жижу, из-за которой меня практически лишали детства.
Тут отворилась дверь и к нам вошла соседка, добрая бабушка из соседнего дома. Глянув на меня, она улыбнулась, и, возможно, желая сказать мне что-нибудь приятное, произнесла:
- Кефирчик кушаешь, сластёна?
Я готов был выпрыгнуть из своих коротких штанишек от такой несправедливости. Меня обозвали самыми паршивыми словами, какие только могли существовать. Естественно, я перевёл на соседку всё накопившееся во мне раздражение (язык к несчастью уже тогда у меня был едкий), я сообщил ей то, что думаю о кефире, о ней, также то, о чём взрослые старались при ней не говорить.
В итоге, после всех несправедливостей, проявленных относительно меня, я ещё и оказался наказан.
Жизнь учила меня, что нужно жить как все. Не высовываться, не обращать внимания. Дружно кивать и, главное, молчать. Молчать всегда и везде. Как Герасим. Как рыба, с разбегу ударившаяся головой об лёд. Но… От скверной натуры ещё никому не удавалось избавиться.
По достижении школьного возраста положение не улучшилось. А с возрастом проявились новые особенности: я полюбил веселить учителей. На астрономии я кричал:

- На Луну мясо завезли! (в то время мясо и Луна были очень актуальными темами.)
На анатомии:
- Когда практика будет?
Учителя пытались вступать со мной в перепалки, но вместо того, чтобы обдать меня казёнными, холостыми очередями, против которых нечего возразить, они начинали пытаться надо мной острить. А ведь это были простые женщины, зачастую немолодые, не знавшие конъюнктуры дня и не владевшие молодёжным сленгом. Понятно, что вызвать смех класса мне было гораздо проще и привычнее. Выходило, что с моей подачи класс смеялся над преподавателями.
В бессильной злобе учителя в отместку вызывали меня к доске, тут же вкатывали двойку и вызывали родителей. А в девятом классе вообще оставили на осень. По литературе, естественно. Это была мелкая месть, поскольку существовало строгое правило – на второй год в девятом классе не оставлять. Я знал об этом, и пользовался вовсю. Меня, скрипя зубами, вынуждены были перевести в десятый, выпускной класс.
Не лишне будет оговорить, что вдобавок ко всему я отрастил волосы неимоверно запрещённой длины и смело заступался за девочек, которые носили короткие юбки.
Но на всякой улице случается праздник. Пришёл он и на учительскую улицу. В своё время. Для получения гордого звания «допризывник» в военкомат требовалась характеристика из школы. Тогда справедливое возмездие и настигло меня своей железной рукой.
Я по стойке смирно стоял на белом нарисованном квадратике посреди кабинета военного комиссара Ленинского района. Комиссар зачитывал вслух мою характеристику. При этом глаза делались у него всё круглее и круглее, а брови казалось, собрались пересечь лоб и спрятаться в волосах. Мне трудно судить, но, похоже, комиссару раньше не приходилось читать подобных характеристик:
- «Ярый прогульщик…со старшими груб…не занимается… не успевает…не способен…»
Комиссар прочитал ещё много всяких «не», а от концовки ахнул даже присутствующий зде сь врач.
- «Способен на подлости, склонен к предательству!!!»
Я, естественно, свою характеристику, как и комиссар слышал впервые. В голове у меня было сильное удивление: «Ничего себе школа даёт?» Но как на это реагировать, я не знал. Не хватало жизненного опыта. Случись мне сегодня попасть в подобную ситуацию, я бы, наверное, ехидно спросил комиссара:
- Надеюсь, с такой характеристикой вы не пошлёте меня служить в армию? «Без меня большевики обойдутся» и всё такое.
Но в то время я ещё многого не знал, поэтому просто ждал, чем всё закончится. Комиссар же напротив прекрасно понимал, что отправив человека в Красную Армию с такой характеристикой, он рисковал одновременно и своими погонами и тёплым местом (в обоих смыслах).
Очевидно, не совсем представляя, как поступить, комиссар долго морщил лоб и наконец спросил меня:
- Отец есть?
Вполне логично предположить, что у допризывника с такой характеристикой, отца не могло быть в принципе.
- Есть, - честно ответил я.
Узнав, что перед ним не сирота, брови комиссара дёрнулись. Наверное, представив себе моего отца, он внутренне ужаснулся. Кем же должен быть мой отец, если даже у детей матёрых рецидивистов не было подобных характеристик.
- Чем занимается? – спросил комиссар.
- Служит в армии! – постарался ответить я как можно чётче. Ведь я же находился в военном комиссариате.
Брови у комиссара опять удивлённо поползли вверх. Конечно, после такой характеристики было странно слышать, что у меня отец служит в армии. К тому же его оттуда до сих пор не выгнали из-за меня.
- Кто по званию? – не скрывая удивления, поинтересовался комиссар.
- Подполковник, - ответил я опять по-военному чётко.
Комиссар развёл руки, уже не скрывая своего возмущения происходящим. Ни по каким критериям отец у меня не должен был перерасти прапорщика. Однако признав во мне дитя из военной семьи, комиссар забарабанил пальцами по столу. Похоже, адекватность характеристики начала казаться ему сомнительной. Он откинулся назад и спокойно, уже с интересом спросил:
- А кто отец по должности?
- Замполит полка, - отрапортовал я, зная название должности со слов матери.
- Понятно! – сказал комиссар немного тягуче.
Очевидно, характеристика уже вызывала у него раздражение, а не удивление:
– В армию служить пойдёшь как миленький. А этой школе… - он повернулся к доктору.
Доктор испуганно показал на меня пальцем. Мол, не при нём же.
Комиссар снова повернулся ко мне:
- Смотри у меня! Если не исправишься, с губы не будешь в армии вылезать! Свободен!
Я ответил: «Есть» и пошёл к двери, но всё-таки успел дослушать фразу комиссара:
- Я этой школе глаз на жопу натяну! Будут знать, как из комиссара района дурака делать!
*
В высшем военном училище самыми главными науками считались науки, в которых расписывалось светлое будущее человечества. И таких наук было до крайности много: исторический материализм, диалектика, история КПСС, партполитработа в войсках и ещё другие. Как будущие офицеры мы, конечно, собирались защищать Родину. Но вместе с Родиной нам нельзя было забывать про светлое будущее, которое местами считалось важнее Родины. Так гласила политика победившего социализма.
Изучение наук о «прекрасном далёко» руководство тесно связывало с непомерной тягой к их изучению. Но непомерная тяга больше провозглашалась на бумаге. Поскольку огромные пласты теории в совокуплении с обязательными политинформациями, бесконечными комсомольскими собраниями, едиными политднями и прочей непрекращающейся политической вакханалией, которая представляла собой огромный неперевариваемый ком, то вся эта громада давила на курсантов, как толстый, пьяный любовник на хрупкую девушку. Тучное обилие всевозможной

политграмоты не способствовало самозабвенному изучению её основ, и потому вместо непомерной тяги обычно вызывало у курсантов голодные волчьи завывания, хотя, возможно, они больше походили на скуления.
Как всегда я выпал из общей системы взглядов окружающих меня людей и не проникся исполнением волчьих завываний. Я усиленно начал изучать философию материализма. Грудью налегал на первоисточники, ковырялся в письмах основоположников и критиках разных программ. Я почему-то запросто вникал в суть прочитанного, хотя другим это не давалось вовсе. Я читал много и с удовольствием. Мне это нравилось. Другие науки, признаться честно, подобной заинтересованности у меня не вызывали.
К тому же в душе я страстно желал строить светлое будущее, и пытался докопаться: каким же представляли себе данное строительство незабвенные классики? Мне хотелось, чтобы люди когда-то начали нормально жить и перестали мучаться.
Неукоснительным требованием изучения перечисленных наук было наличие конспектов по трудам основоположников. Мои товарищи данные конспекты наперегонки передирали друг у друга. И понятно искали где меньше написано. Я же всегда конспектировал сам. Конспектировал непременно с первоисточников, помечая нужные места крестиками и галочками. Конспекты выходили объёмными и форматными. Их у меня передирать никто не брал. А если кто иногда в них и заглядывал, то потом недовольно молчал, хотя внутри начинал считать меня выскочкой и предателем корпоративных интересов.
По устоявшейся жизненной традиции глубинное изучение основ классической теории не принесло мне лавров. Из-за лишних знаний я постоянно вступал в споры со своими товарищами, которые, как правило, заканчивались переходом на личности. Мои товарищи с одной стороны вообще не читали никаких теоретических выкладок, не говоря уже о классиках, с другой почему-то считали себя превосходными знатоками ленинских идей. Они легко ввязывались в идейные споры, и выходить из них желали непременно победителями.
В принципе весь советский народ знакомился с данной теорией в основном по лозунгам на заборах («Пятилетку в три года!», «Партия наш рулевой!» и т.п.), но при этом почему-то искренне считал, что вполне владеет тонкостями диалектического материализма.
Когда же я в качестве доказательства доставал первоисточники классиков и предлагал спорщикам почитать вместе со мной, раздражение их переходило всякие границы. От одной мысли, что им сейчас придётся читать подлинную ленинскую работу, они взрывались и уходили от дальнейшего спора в область ругательств. Понимал меня только мой друг Игорь Дудукин. Он хоть и был круглый отличник, но в вопросах философии разбирался. Так я и вышел в большую жизнь, представляющую собой сплошную стройку коммунизма, заражённый опасными ленинскими идеями.
В войсках, естественно, тоже регулярно шла политическая учёба, но она коренным образом отличалась от той, которая практиковалась в высших учебных заведениях. В войсках такая учёба шла сонно, благодушно. Когда положено собирались, что положено обсуждали, как положено соглашались, кому положено отчитывались, и куда положено расползались.
Всё проходило тихо, мирно. Собственно, блистать знаниями ни от кого не требовалось. Политические занятия – это была скорее проверка на лояльность. Ты можешь ничего не знать, это не страшно, но ты не должен возражать. Это страшно!
Лектор задавал какой-нибудь вопрос, например, как партия заботится о сельском хозяйстве? Отвечающий мог сказать лишь, что «партия очень хорошо заботится о сельском хозяйстве» и больше не произнести ни слова. Четвёрка ему уже была обеспечена. Все и так осознавали, что на самом деле понятия не имеют о том, как партия заботится о сельском хозяйстве.
Главное, чтобы кто-нибудь сдуру не ляпнул, что «не знает», как партия заботится о сельском хозяйстве. Этого бы ему никогда не простили.
Мне было крайне тяжело сдерживать себя на таких занятиях, но я молчал. В такт с остальными я дружно кивал, что партия очень хорошо заботится о сельском хозяйстве. При необходимости нечленораздельно мычал на поставленные вопросы и получал заслуженные четвёрки. Так продолжалось пока я был лейтенантом, старшим лейтенантом…
Но когда я стал майором, мои нервы не выдержали и меня разок прорвало. Наверное, виноват закон физики, который утверждает, что если где-то вздулось, то обязательно найдётся дырка, в которую протечёт.
Тема занятий на этот раз была «экономика социализма». Вёл занятия пропагандист полка. Фамилию называть не стану. Да и зачем фамилию? Для меня он был просто Ваней.
Для начала он прочитал вступительную лекцию об экономике социализма, аккуратно водя пальцем по конспекту и усиленно ссылаясь на выводы последнего партийного съезда. Далее приступил к полемике. Ваня привычно собрался вести среди нас несмышленых разъяснитель- ную работу и духовно повышать нас до высот беднейших рабочих и крестьян. Чёрт его дёрнул спросить меня. Конечно, я постарался как всегда побыстрее отделаться, поэтому очень коротко и тупо произнёс:
- При коммунизме в основе экономики будет лежать лозунг «От каждого по способности, каждому по потребности». Сейчас же пока действует «буржуазное право», лозунгом является «От каждого по способности, каждому по труду».
На этом я собирался сесть, и привычно отключиться от происходящего, вспоминая что-нибудь доброе и приятное.
- Как это «буржуазное право»? – уставился на меня Ваня. – Мы говорим сейчас о социализме.
Я поначалу подумал, что Ваня шутит и знаками показал ему, что шутку оценил. Однако тот продолжал смотреть на меня вопросительно и ждал ответа.
- Я именно о социализме и говорю, - ответил я лектору, немного раздражённый тем, что мне не дали сесть.
- Какое же при социализме может быть буржуазное право? – Ваня сделал такое театральное ударение на слове «буржуазное», что я догадался – он вообще не понимает сути.
- А какое же у нас при социализме право? – вопросом на вопрос спросил тогда я его.
- При социализме? – похоже, Ваня тоже начал догадываться об уровне собственной политграмотности. Очевидно обнаружив соответствующую недостачу, решил, как учили заменить знания убеждённостью, и убеждённо выпалил – Социалистическое!
Это был общепринятый приём. Замполиты и партсекретари всегда учили: «Если не обладаешь знаниями, значит дави идеологического врага убеждённостью!» Я понял, что сесть на стул мне скоро не удастся, поэтому решил добивать вопрос до конца:
- В чём же заключается социалистическое право?
Ваня с грустью осознал, что нужен конкретный ответ, а убеждённостью отделаться не удастся. Долго лупая глазами, он, наконец, выкрутился, сославшись на мой предыдущий ответ:
- От каждого по способности, каждому по труду.
Выкрутиться, может он и выкрутился, но самое страшное все поняли, что он выкручивается. А пропагандист полка не имеет права выкручиваться. Пропагандист – это кладезь знаний. Главный полковой теоретик. Вопросы-то на самом деле не сложные. И уж кто-кто, а пропагандист в них должен разбираться лучше остальных. Эскадрилья замерла в ожидании. Все прекратили клевать носом и с интересом начали наблюдать за нашей перепалкой. В другом месте я бы отступил. Но ронять свой авторитет перед эскадрильей я не мог.
- Вы уверены, что это именно социалистическое право? – снова задал вопрос я.
- Да! – уверенно выкрикнул Ваня.
- И на нём стоит экономика социализма?
- Да! – снова выкрикнул оппонент.
Разошёлся пропагандист. Словами уже не может, только криком.
Тоже мне Беня Крик нашёлся.
- Что ж, сформулируйте теперь буржуазное право в экономике, - попросил я.
Таращится Ваня на меня. Ртом, как рыба на берегу шевелит. Очень ему сказать чего-то хочется. Да и надо бы. Учить нас вроде пришёл. А сказать ничего не может. Не хватает ему политической грамотейки. Молчит Ваня, но не просто. Зло молчит. Слышно, как его внутри всего корёжит. Вроде я ему кулаком под дых заехал. Тужится Ваня, что есть мочи. Из глаз молнии пустить хочет. Только после того, как мелко выкручивался при всём народе, с молниями не того. Не очень с молниями получается.
Ежели, к примеру, из автомата сдуру непереставаючи трассерами палить, то ствол быстро разогреется и будет пули уже не выстреливать, а выплёвывать. Так и Ваня со своими молниями точно, как этот перегретый ствол. Они у него из глаз не вылетают, а выпадают. Недалеко так. Метра на полтора, не дальше. Да и тусклые совсем. Не блещут. Вот до чего неграмотность человека довести может. Да, замполиты – это вам не комиссары!
Убедившись, что Ваня в глухой обороне, и все это хорошо видят, добиваю дальше:
- Тогда сообщите нам, кто является основоположником экономики социализма?
Не глядя на то, что Ваня закончил политическое училище, в вопросах марксистско-ленинской теории он не дотягивал даже до питекантропа.
- Ленин! – запальчиво выкрикивает Ваня, и очень зря.
- В какой работе? – спрашиваю, а сам руки в стороны развёл, как бы показывая, что ответа не последует. Больше для публики, конечно.
Снова Ваня молчит. Обида его гложет. Если бы он сейчас ненароком при всех обмочился – это выглядело бы не так позорно, как то, что он сам себя уличил в политической неграмотности. Запал у него кончился. Да какой к чёрту у политработников запал? Ему бы заплакать сейчас. Глазные молнии в слезах уже потонули.
- Точно не помню, - отвечает упавшим голосом.
- А не помВ бессильной злобе учителя в отместку вызывали меня к доске, тут же вкатывали двойку и вызывали родителей. А в девятом классе вообще оставили на осень. По литературе, естественно. Это была мелкая месть, поскольку существовало строгое правило – на второй год в девятом классе не оставлять. Я знал об этом, и пользовался вовсю. Меня, скрипя зубами, вынуждены были перевести в десятый, выпускной кла сс.ните Вы товарищ майор по одной простой причине, - наставительно сказал я, - Ленин никогда не обосновывал экономики социализма.
Ваня такой клеветы на советскую власть снести не мог и почти плача снова крикнул в ответ:
- Обосновывал!
Прямо как на зоне: не можешь драться – отгавкивайся. Я не удосужил его ответом. Мне необходимо было дать разъяснения подчинённому личному составу. Это теперь касалось моего авторитета. Поэтому, обращаясь ко всем, я пояснил:
- В первой фазе коммунизма, то бишь при социализме, сохраняется буржуазное право распределения материальных благ. Вы хорошо помните лозунг: «от каждого по способности, каждому по труду». Где
«каждому по труду» главнейший признак действия буржуазного права при социализме. Именно буржуазного. А что касается глубоких теоретических разработок экономики социализма – то классики этим никогда не занимались. Ни Ленин, ни Маркс.
Ваня не спеша начал собирать свои шмотки, всем видом показывая, что досрочно прекращает лекцию. Так же показал, что он лично оскорблён. И ещё показывал, что принимает перчатку, которую я публично запустил ему в лицо.
- Вы готовы повторить всё это в другом месте? – делая вид, что внутри спокоен, спросил меня Ваня.
Только вид не очень удался. Разве, что сопли на кулак не стал наматывать. Но головёнку гордо вверх задрал. Как бы намекает, мол, откажись от сказанного, навзничь пади, немного в пыли поваляйся, может и прощу. И ещё тем самым намекает, что я в его лице весь политический отдел полка оскорбил, а то, пожалуй, и дивизии. Грозит мне, стало быть.
Я, понятное дело, валяться не стал, а контрольный произвёл:
- Как насчёт ликвидации безграмотности среди политических работников? Теперь уже он не удостоил меня ответом, быстро вышел, и дверью хлопнул. Естественно тут же, побежал закладывать меня своему политическому руководству. Но я на него не обижаюсь. Любой честный человек поступил бы на его месте так же.
Однако политическое руководство, выслушав сбивчивый доклад Вани о буржуазии, поступило мудрее. В ведении политработников находилась лишь политическая близорук ость и неграмотность, а вражеская агитация проходила по линии потомков НКВД и ВЧК. Меня «сдали» в особый отдел дивизии.
Начальник особого отдела дивизии встретил меня радушно. Так у них принято.
- Минералочки, из холодильника? – приветливо спросил он.
Кто же откажется от минералки в такую жару? Могут ведь, когда захотят.
- Минералочки? С превеликим удовольствием, - в тон ответил я. Разливая минеральную воду по стаканам, особист, как бы из любо-
пытства поинтересовался:
- Так, что там у нас произошло?
- Пропагандист полка жидко обгадился из-за своей безДырявит меня член высокоморальным взглядом, потом наставитель- но так спрашивает. Голос у него оказался гнусавый и такой тоненький, что я часом засомневался, не кастрат ли он. Уж так этот голос его членов образ портил.грамотности,
- ответил я.
Я ещё по пути сюда решил, что на политрабочих стоит наехать. Раз они меня так, то чего уж мне стесняться? Поэтому начал не с обороны, а с нападения.
- Агитацию против Ленина развёл. Да и Маркса не поддерживает,
- продолжил я. – Одним словом гадюку на груди греем.- Заполняй, Иван, быстрее!
Особист хоть был не молод, но похоже с подобной ситуацией столкнулся впервые. До меня ещё никто не обвинял пропагандистов в искажении ленинской теории. Вот жизнь! Всегда от меня что-то новенькое слышат. Но узнав, что дело касается области теоретического спора, особист расслабился. Особой мороки ему это не предвещало. Он даже откинулся в кресле:
- Чем же тебе пропагандист не угодил?
- Так кричит, - отвечаю, - что в экономике у нас право социалистическое действует. Не знаю или сам выдумывает, или от вражьих голосов набрался?
- Во как? – особист даже засмеялся. – А какое право у нас действует?
- Известно какое, - отвечаю, - буржуазное.
Особист чуть минералкой не подавился и снова в вертикальную позу сел:
- Какое буржуазное? Ты чего ахинею несёшь?
- А я здесь причём? – пожимаю плечами. – Это не я. Это Ленин. Особист молчит и на меня смотрит. О чём думает? Да кто ж его знает.
Я на всякий случай добавляю:
- После Маркса, разумеется.
Гляжу и начинаю понимать – особист такой же тёмный в ленинской теории, как и Ваня. И возмутился я вслух. Хотя умные вслух не возмущаются. В кабинете у особиста молчать принято и соглашаться, а не возмущаться. Но поздно. Вот она натура дурная.
- Каждый коммунист, - говорю, - а тем более политработник обязаны знать основы ленинского учения. А то, что же получается, они нас к светлому будущему ведут, а куда ведут, так на деле толком и не представляют? Куда же в таком случае мы с Вами придём?
Говорю я это вроде как бы полусерьёзно, но гляжу на особиста, и медленно до меня доходит – ведь не только особист, а вообще никто из руководства не знает никаких ленинских основ. В институте или в училище проскочили галопом для порядку, оценку получили и больше не вспоминают об этом. Бляха муха! Ведь так и есть. Все кто нас ведёт вперёд путём указанным Марксом и Лениным, даже на чайную ложку не смыслят в марксистско-ленинской теории! Они специально для нас делают вид, что слишком умные, а на самом деле ни черта в этом не понимают.
И что мне дальше особисту говорить? Может он о таком положении дел вполне знает? Может это государственная тайна? А я в неё с грязными сапогами проdiv class=ник. Дела, думаю. Лучше подожду, что он скажет.
- Так в какой работе про буржуазию-то? – спрашивает он меня, и пальцами по столу барабанит. Видать, если я ему сейчас работу эту не представлю, не выпустит он меня отсюда.
- Государство и революция, - отвечаю.- Первая фаза коммунистического общества.
Елки-палки, себе думаю. Ведь это же самая основа. Наверняка у этого особиста конспект по данной работе Ленина имеется. Только не найдёт он там ничего. Передрал у кого-то, чтобы побыстрее, и больше не открывал никогда в жизни. Да и открывать, что толку? Ахинея у него в конспекте и гадать нечего.
Зовёт особист своего помощника из соседнего кабинета. Велит, что бы тот ему «Государство и революцию» в полном собрании сочинений поискал (ПСС сокращённо). ПСС завсегда у начальства на самом видном месте стояло. Только зачем, спрашивается? Если они его всё равно читать не собирались.
Притащил помощник нужный том. Мне подаёт. Открываю я им главу пятую, отыскиваю часть третью «Экономические основы отмирания государства». Нахожу нужные места и обоим чекистам, где читать пальцем тыкаю.
- Но государство ещё не отмерло совсем, ибо остаётся охрана «буржуазного права», освящающего фактическое неравенство, - читает внимательно особист.
И на меня смотрит. Я ему говорю:
- Вот, охранять «буржуазное право» - это как раз ваша прямая задача - и дальше пальцем тыкаю.
- Отсюда такое интересное явление, как сохранение «узкого горизонта буржуазного права» при коммунизме в его первой фазе.
Глаза у обоих особистов округляются. Не удивительно, ведь Ленина в подлиннике первый раз в жизни читают. Но я чувствую, палку перегнул. Забыл, где нахожусь, в полном смысле. Надо бы повежливее.
Особисты до конца дочитывают:
- Выходит, что не только при коммунизме остаётся в течение известного времени буржуазное праpво, но даже и буржуазное государство – без буржуазии!
Сидят, молчат. Я, чтобы паузу скрасить решил разговор поддержать:
- Хоть и без буржуазии, а государство у нас пока буржуазное. Это любому придурку понятно должно быть.
А сам думаю – ни хрена себе повежливее получилось.
Особист кулаком по столу как треснет. Я, честно говоря, вздрогнул маленько. Умеют же, когда захотят.
- Ты чего хочешь? – вдруг спрашивает меня жёстко.
- Не понял, - говорю, - в смысле?
- Ты же умный парень, - снова говорит особист, правда уже не так строго.
- Так я не против, - соглашаюсь. Он снова кулаком по столу:
- Тогда разговоры такие прекращай!
- Так э-э… - начал я было.
- Всё, - говорит особист. – Что б больше я от тебя ничего подобного не слышал.
И видя, что я ещё собираюсь поумничать, назидательно так спрашивает:
- Или ты хочешь, чтобы мне на тебя команду «Фас» дали? Кому чего тогда доказывать будешь?
- Нет, не хочу команду, - честно признаюсь я.
- Вот и договорились, – подвёл он итог. - С политработниками я поговорю, но, чтоб больше от тебя ни слова. Ясно?
- Куда уж ясней, - отвечаю, и направляюсь к выходу.
За что пропадать? За ленинскую теорию? Которая, оказывается, никому кроме меня не нужна. Пошла она…
Рыбалка в Каракумах
Встречали группу воронежских лётчиков-исследователей как родных. Давняя традиция. Даже митинг маленький провели. А как же? Из Воронежа – почти из Москвы. Хоть по плану эти исследования каждый год проводили, но всё равно. Это же не каждый день.
Устроили по местным понятиям шикарно, почти в гостиничных условиях, только удобства на улице.
Братская эскадрилья, с которой установились давние дружеские отношения, уже ждала в полном составе. Комэск обнял каждого исследователя лично и только после этого спросил:
- Ну что, привезли?
Майор Злоказов, старший группы, немного потянул время для боль- шего эффекта и наконец выпалил:
- Конечно, привезли!
Лица братской эскадрильи расползлись в блаженных улыбках.
- Ну, давай! – нетерпеливо закричал их замполит.
- Нет, - строго оборвал комэск, - договаривались завтра, значит завтра! Лица лётчиков потускнели.
- Да в принципе правильно, - рубанул ладонью воздух замполит, - чего его теплое пить? Сейчас по холодильникам разложим, а завтра с утра… хм… ну в общем, когда всё начнётся, тогда и…
- А сколько привезли? – Снова повернулся к исследователям комэск.
- Да две парашютные сумки, - ответил Злоказов и показал широким жестом, как это много.
- О-о-о! – лица лётчиков снова засверкали. – Вот за это спасибо, мужики!
У нас же пива почти не бывает. А если привозят местное, такая дрянь.
- Воронежское – это хорошо, - снова порадовался замполит, - вот завтра на рыбалочке! Да под ушицу!
- Как на рыбалочке? – немного опешили исследователи.
- Ну как, на рыбалочке, - подмигнул комэск, - что, думаете только у вас рыбалка бывает?
- Да, честно говоря, не представляю, какая в Каракумах может быть рыбалка? – пожал плечами Злоказов.
- А-а-а! – обрадовались местные. – Значит раньше никогда в Каракумах на рыбалку не ходили?
- Не ходили, - ответил Злоказов, - и что много можно с бархана наловить?
- Вот завтра и посмотрите, – подвёл итог комэск. – В восемь мы за вами заедем. А пока тащите пиво, мы его за ночь нахолодим.
Ровно в восемь «Урал» накрытый брезентовым тентом забрал исследователей. Эскадрилья уже сидела в кузове. Все шестнадцать человек. Больных и опоздавших не было. Вместе с исследователями получилось тесновато, хотя свободные места ещё остались.
КПП проехали довольно спокойно. Вид у сидящих в кузове можно было бы даже назвать безразличным. Но, отъехав немного от КПП, нервы сдали.
Начальник штаба достал огромного леща, а замполит вязанку тарани. Все вопросительно смотрели на комэска. Тот отворачивался и делал вид, что не понимает.
- Нагреется же! – стукнул лещом о сиденье начштаба. Комэск заёрзал.
- Ну, командир! Что ты, в самом деле? – поддержал замполит. – По стаканчику пока холодное. Сейчас действительно нагреется. На фига мы его всю ночь в холодильниках морозили?
Комэск ещё немного поёрзал на сиденье и махнул рукой:
- Дастархан!
Тут же, как по волшебству, в кузове образовалось пустое пространство. На его месте мгновенно появилась скатерть самобранка в виде офицерской плащ-накидки. И на накидке-самобранке с неимоверной быстротой возникли консервы, селедка, хлеб, зелёный лучок, картошка и сало. С вяленной рыбы вмиг слетела чешуя. И горлышки бутылок застрочили по стаканам, обдавая сидящих свежим запахом с пеной.
Первый стакан все пили зажмурившись и потом ещё немножко посидели с закрытыми глазами. Тут же налили по второму и снова выпили. Замполит посидел немного облизывая пену с верхней губы, и повернулся к исследователям:
- Дастархан, конечно, это когда на ковре. Но мы же не настоящие туркмены. Да и плащ-накидка привычнее.
- Нормальный дастархан, - ответил Рашид Насибуллин и хватанул зелёного лучка.
Все немного закусили. Потом ехали молча. Потом опять закусили.
Потом опять помолчали.
- Командир! Так всё пиво на мочу переведём! – наконец возмутился начальник штаба. – Мы на отдыхе или где?
- Правильно, - закивал лётный состав, - пиво без водки – деньги на ветер.
- Тфу на вас! Делайте что хотите, – комэск матюкнулся и отвернулся. Тут же над самобранкой повисла двадцатилитровая канистра чисто-
го спирта, с удивительной точностью не глядя на автомобильную тряску плещущая в стаканчики. Автомобиль осторожно свернул с асфальтовой дороги и не спеша пошёл по песку. Однако, вскоре остановился и через секунду над задним бортом объявилась голова старшего машины.
- Чего встали? – недовольно спросил комэск.
- Ага, чего, - недовольно ответила голова. – Я так и знал! Уже начали!
- Да останется тут тебе, - снова недовольно сказал комэск.
- Командир, ты же сам знаешь, что не останется, - съязвила голова,
- а даже, если вдруг и останется, то точно кипеть от жары будет.
Доводы показались комэске убедительными. Он мотнул головой замполиту:
- Выдай там порцию.
Однако, старший машины уже перемахнул через борт, и громко крикнул водителю:
- Трогай!
После чего схватил бутылку пива и жадно начал глотать.
- Ну ты чего делаешь-то? – возмутился комэск. – Зачем водителя одного оставил?
- Да местный он, - оторвался от бутылки старший машины. – Знает он тут всё. Довезёт как миленький.
- А борзометр не зашкаливает? – не успокаивался комэск.
- Да ладно, командир, - поддержали старшего машины остальные,
- в пустыне ни знаков, ни перекрёстков. И мимо канала всё равно не проедем. Его захочешь - не объедешь.
Комэск ещё раз плюнул, махнул рукой и опять отвернулся.
- Так где же у вас места рыбные всё-таки? – спросил Злоказов у ближайшего соседа.
- У-у-у, - затянул тот, показывая всем видом, что это есть тайна великая.
- Прямо в канале, что ли ловите? – подзадорил его Злоказов.
- Да нет, - начал колоться тот, - в самом канале какая рыбалка? В самом канале шиш два чего поймаешь, да и грязный он. Если там чего и поймаешь, то такой рыбой только травиться. В канале какая рыбалка? А вот отводные рукава от канала – это да-а-а!
Рассказчик демонстративно поднял палец вверх:
- Ежели такие рукава знать, то рыбалка там похлеще, чем у вас будет.
Рыбы там – у-у-у!
Тут Злоказову к месту вспомнился свежий анекдот про рыбалку и он рассказал его всему кузову.
СВЕЖИЙ АНЕКДОТ про военную рыбалку.
Собираются лётчики эскадрильи на рыбалку. Комэск посадил всех в классе и спрашивает:
- Какие будут предложения, товарищи? Командир первого звена высказывает мысль:
- Я предлагаю взять три ящика.
Все задумываются. Потом командир второго звена говорит:
- Нет, три много. Я предлагаю взять всего два ящика. В прошлый раз мы взяли с собой три ящика, так удочки все перепутались напрочь, природу загадили, замполита потеряли. Предлагаю два ящика.
Опять эскадрилья долго думает. Наконец комэск выносит решение:
- Значит так! Берём три ящика. Удочки не берём. Замполита не берём.
Из автобуса не выходим.
Анекдот в обощем-то понравился, и почти стал началом серии анекдотов про рыбалку, но обстоятельства начали меняться. «Урал» неожиданно пошёл вверх, и постепенно начал терять скорость. Водитель при этом выжимал полный газ. Не глядя на все усилия, «Урал» остановился, хотя водитель продолжал газовать. Сидевшие в кузове понимали, что этого делать на песке никоим образом нельзя. Если так буксовать, то «Урал», выбросив задними колёсами весь песок, просто сядет на него задним бортом. Сидевшие ближе к кабине стали отчаянно молотить по ней, давая водителю понять, что он делает что-то не так. Водитель прекратил газовать и «Урал» затих. «Отдыхающие» гурьбой вывалились из кузова.
- Ты как на бархан заезжаешь? – начал кричать комэск на водителя – солдата срочной службы. – Ты что же на него в лоб заезжаешь. Тудыт твою, куда тебе дышло!
- Я на сопка всегда так заезжаю, - оправдывается водитель.
- Какая сопка? Тебя как звать? – не унимается комэск.
- Вася звать, - отвечает водитель.
- Почему Вася? – дальше кричит комэск. – Разве у туркменов такие имена бывают?
- Пачему туркмэн? – теперь возмущается солдат. – Я якут.
- Как якут? – комэск сначала опешил, а потом закипел. - Где этот старший машины? Ты мне что говорил? Ты мне говорил, что он местный. А он из Якутии. Ты что, якута от туркмена отличить не можешь?
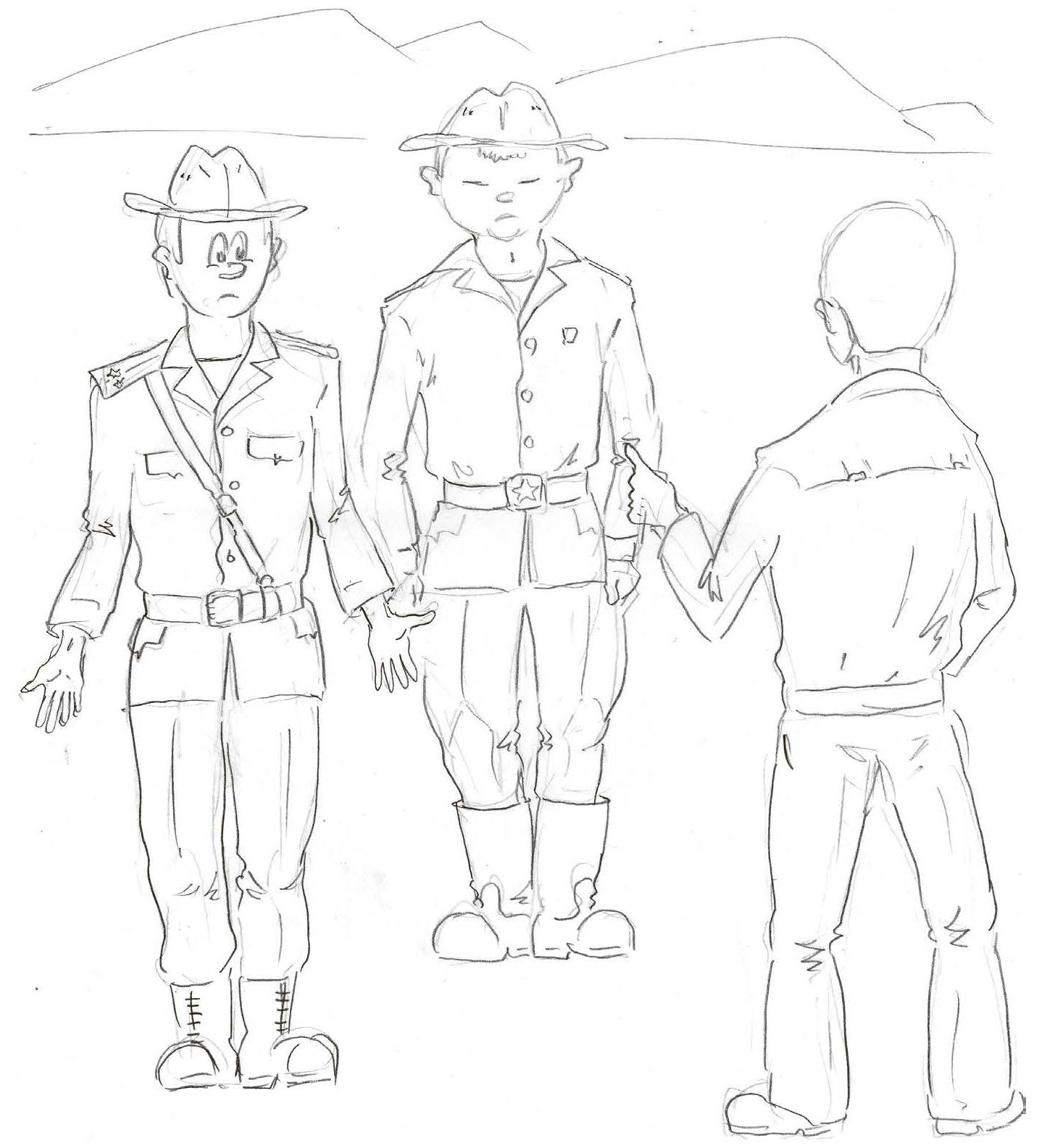
- Да я было ещё подумал… - начинает оправдываться старший машины.
- Сколько ты служишь? Как можно якута с туркменом перепутать? – теперь уже на него кричит комэск. – Тебя что, по объявлению в армию набирали?
- Командир, да ладно расстраиваться, - успокаивает его начштаба. – «Урал» же под горку стоит. Сейчас колёса подспустим он самокатом из ямы выйдет. Я сам за руль сяду.
Колёса подспустили и «Урал» действительно, без особых усилий вышел из образовавшихся от колёс ям. Дальше поехали по барханам уже по науке – под углом 15 – 20 градусов. Потом начштаба сменил замполит.

Потом всем гостям дали покататься. В самом деле, где они у себя в Воронеже на «Урале» по барханам поездят? Ребята с неописуемым удовольствием осваивали науку заезда на бархан и, соответственно, съезда с него.
Потом маленько блуданули и пришлось восстанавливать ориентировку штурману, используя часы и курсовой угол солнца. Правда, оказалось, что штурман уже сильно набрался, а часы у него стоят, поэтому заблудились ещё сильнее. Хотя слово заблудились к пустыне не совсем подходит. Там заблудиться в привычном смысле невозможно. В пустые это называется «сбились с пути».
Пока совещались, перенесли «дастархан» на улицу, в тенёчек от
«Урала». В кузове уже слишком жарко стало. Но потом всё-таки разобрались и поехали в правильном направлении.
Короче приехали к зарыбленному рукаву когда солнце уже подошло к горизонту. Местные лётчики про рыбалку даже заикаться не стали.
- Не, ребята, - предупредили они. – Сейчас солнце уйдёт, так темень мигом спустится. А потом такая холодрыга наступит, что мама не горюй. Готовьтесь срочно к ночлегу. Всё что есть тёплого на себя натягивайте, и от машины никуда. Тут ночью и змеи и скорпионы в полном наборе. Так что по-малому прямо с борта, а остальное до утра приберегайте.
Гости, следуя наставлениям бывалых, с горем пополам готовились к ночи. Но всегда попадётся такой, который думает, что на рыбалку ездят непременно за рыбой. Ему обязательно нужно постоять с удочкой, иначе, в отличие от остальных, ему это видите ли не рыбалка.
Витёк Деревянко взял удочку и попёрся к воде. Рукав находился примерно метрах в пятидесяти от «Урала». Огромное солнце погружалось в пустыню, как корпус оранжевой подводной лодки, нещадно паля напоследок из всех орудий. Не верилось, что здесь вообще может быть не жарко. Хмельной жар в голове Витька сливался с жаром, насытившим за день пустыню. Жаренный воздух, струясь, поднимался вверх, и колебаниями своих струй буквально карёжил картину окружающего мира. Пустыня двигалась, шаталась, ходила волнами, обращаясь в причудливые зигзаги, и как бы намекала: «Не верь ничему, что видишь».
Да-а, подумалось Витьку, конечно, тут и море может привидеться, и оазис, и чёрт знает что. Правда всё, что про миражи говорят. Не врут, значит.
Сощурив глаза, как бывалый туркмен, Витёк мучился и другой мыслью – интересно, кроме русских, кто ещё потребляет спирт в такую жару в пустыне? Он даже попытался представить себе местных аксакалов, сидящих за низеньким столом среди дынь и арбузов, разливающих спиртягу по пиалам, смачно крякающих и занюхивающих рукавом. Нет, про таких аксакалов никто никогда не рассказывал. Выходит, кроме русских – никто, что ли? Хотя нет! А Рашид Насиббулин. Он же татарин, однако, ничем не отличается из остального коллектива. Значит, спирт в пустыне потребляют русские и татары. С чувством благодарности к татарскому народу, Витёк подошёл к рукаву.

Рукав оказался узеньким канальчиком с невысокой щебёнчатой опалубкой. Вода была прямо вровень с опалубкой и удивительно спокой- ная. От неё, как и от остальной пустыни, воздух, колеблясь, поднимался вверх. Значит вода тёплая. Скорее, даже горячая. Витёк задумался, а не искупаться ли?
- Витёк, - услышал он голос Злоказова, - а ну бегом к машине! Брось на хрен свою удочку или я не знаю, что тебе сейчас сделаю!
- Бегу, бегу, - отозвался Витёк, шевеля во рту непослушным сухим языком.
Но сам наскоро нацепил червя на крючок, закинул удочку и только после этого бегом вернулся к машине.
Ночь действительно скоро стала холодная. Если бы все были трезвые – наверняка бы простудились. Витёк удивлялся таким быстрым сменам температуры и, кутаясь в общественную плащ-самобранку, искал к кому бы прислониться потеплее.
Сна толком не получилось. Происходила какая-то дрёма, перебиваемая то чужим храпом, то разговорами. С рассветом сон вообще пропал и Витёк уже больше дожидался общей побудки, чем дремал. Тут-то его внимание и привлекло необычное зрелище. По воде канальца двигалось нечто, освещающее себе путь двумя мощными фарами.
Витёк поначалу даже решил, что это галлюцинация. Но галлюцинация приближалась, всем своим видом показывая, что она не галлюцинация. А когда она совсем приблизилась, то оказалась вообще автобусом, и шурша шинами уверенно проехала мимо.
У Витька мелькнули некие ассоциации с Библией, но быстро рассеялись. Автобус никак не походил на библейский персонаж. Отбросив предосторожности, Витёк в недоумении отправился к рукаву, с твёрдым намерением разгадать потустороннее явление.
Подойдя вплотную к рукаву, у Витька испортилось настроение. Лучше бы это аномальное явление осталось неразгаданным. Вровень с опалубкой стелилась гладь обычной серой шоссейной дороги. Червяка, завяленного с вечера, автобус впечатал в асфальт, а удочка, отброшенная им, валялись рядом. Впереди, примерно в ста метрах от трассы, колыхалась водяная рябь обводного рукава Каракумского канала имени Ленина.
Академия
Как любой порядочный род войск авиация тоже имела свою академию, даже две. Лётный состав проходил обучение в монинской академии имени Гагарина, а инженерный состав повышал квалификацию в академии Жуковского.
В этой самой монинской академии в конце шестидесятых годов ежегодно повторялся один и то же случай, который со временем стал неотъемлемой частью самой академии. Происходил он во время сдачи экзаменов в период поступления в неё очередных соискателей.
Поступление в академию в то время разрешалось с должности командира звена, поэтому по званию поступающие были, как правило, капитаны и старшие лейтенанты. Этим капитанам и старшим лейтенантам, которые приехали поступать, вечерами было совершенно нечего делать, в связи с чем им обязательно приспичивало немного выпить. Но питейных заведений в Советском Союзе в то время было небогато, а вокруг монинской академии их не было совсем. Поэтому, купив бутылку водки, её приходилось распивать на свежем воздухе.
Но фокус заключался в том, что для распития водки обязательно требовался стакан. Поскольку водку пьют для удовольствия, а без стакана от питья водки получить удовольствия невозможно. Собственно, если кто-то сомневается, то легко может это проверить, хлебнув из горла бутылки.
Современным людям, которые привыкли приобретать пластмассовые стаканчики в любом киоске и магазине, может не повериться, но в конце шестидесятых вот так запросто достать стакан было невозможно. Поэтому капитаны со старшими лейтенантами, как правило, добегали до ближайших дач (заодно от начальства подальше), с целью попросить там стакан у хозяев.
В вечернее время на ближайшей даче всегда копошился мужичишка в пижамных штанах и в майке. К нему то и подбегала означенная пара. Оглянувшись на всякий случай по сторонам они по-свойски обращались к дачнику:
- Слышь, дедок, помоги стаканчиком разжиться.
При этом они показывали бутылку водки и мимикой дополняли просьбу, мол, сам понимаешь, без стакана никак, уж будь добр, войди в положение. Надо сказать, население к военным в то время относилось доброжелательно, и ничего удивительного не было в том, что дедок аккуратно воткнув лопатку в землю, не спеша шёл в дом. Военные ставили бутылку рядом в травку и принимались ждать. Прождав, некоторое время закуривали. Дедок искал стакан довольно долго, потом выходил.
Оказывалось, задержка происходила вовсе не из-за стакана. Просто дедок поверх майки накидывал китель, а потом брал два стакана в руки и выходил к «гостям» со словами:
- Вот вам сыночки стаканчики.

Военные, взглянув на китель, истошно давились дымом, начинали этим дымом кашлять, и со словами «Простите, товарищ маршал, извините, товарищ маршал, виноваты, товарищ маршал», ускоренно исчезали.
Дело в том, что хозяином крайней дачи был никто иной как начальник академии имени Гагарина маршал авиации Красовский Степан Акимович.
А китель кроме маршальских звёзд украшали звезда «Героя Советского Союза», шесть орденов «Ленина», три ордена «Красного Знамени», орден
«Суворова», орден «Кутузова», орден «Богдана Хмельницкого», орден «Красной Звезды» и несчётное количество боевых медалей.
Прибывшие для поступления соискатели, естественно, не знали в лицо начальника академии, а начальник академии, устав возмущаться просто стал хранить на даче свой парадный китель. Это оказалось гораздо эффективнее нравоучительных речей. Благо, эти недоразумения никак не сказывались на оценках поступающих.

*
Жизнь в академии проходила по-особенному. Прибывающие сюда своё служебное жильё в частях сдавали, и тут их селили в общежитие. Нормальное советское общежитие. Длиннющий коридор, комнат может на пятьдесят, общественная кухня с одной стороны, и общественный туалет с другой. Тем, которые без детей полагалась комната, а которые с детьми – две.
И, конечно, за весьма короткий отрезок времени все знакомились, дружились и бывало праздновали отдельные даты целыми коридорами. Когда в коридоре множество молодых людей проживает, жизнь даже против воли становится разнообразной и интересной. Понятно, что речь идёт о молодых людях обоих полов.
Слушатели мужского пола, как правило, целыми днями пропадали на учёбе или в нарядах, а их жёнам оставалось только дожидаться с учёбы своих благоверных. И были эти жёны тоже молодые и привлекательные. А уже подмечено, там, где такие «воздушные создания» водятся, непременно происходят неожиданные конфузы.
К тому же не секрет, что каждый год в одно и то же время приходит известная пора, которая непременно всех настраивает на сентиментальный лад. Когда за шиворот начинает капать вода с мокрых сосулек. Рыхлый снежок оборачивается грязной жижей. Помойки, оттаивая, текут и пахнут. В переполненных обочинах всплывает прошлогодний навоз. Чумазые машины регулярно обдают прохожих содержимым из мутных луж. Ботинки обрастают широкими блинами грязи. Дорожает картошка и наступает поголовный авитаминоз.
Данный календарный период означается «пора весны, пора любви». Вслед за мартовскими котами население начинают одолевать креативные страсти, которые впоследствии принято всячески хвалить.
Вот одному из слушателей, фамилия его была, к примеру, Олухов, именно в подобный период и приглянулось эдакое воздушное создание, которое проживало по соседству. У самого-то Олухова жена была. Только была она уже не так молода, как раньше, к тому же излишне перебрала весу за годы супружества, а соседское мимолётное виденье будоражило его воображение и обнажало чувства. Вот и стал он потихоньку оказывать ей всяческие знаки внимания, в надежде добиться соответствующего расположения. И добился таки. Хотя цветов прилюдно не носил и подарков не обещал. Дама ответила на его воздыхания.
Дошло у этой влюблённой пары дело до того, что решили они встретиться в самом интимном смысле и провести в обществе друг друга некоторое время. Как раз у этой очаровательной дамочки муж на целые сутки заступал в ответственный наряд, а тайный воздыхатель в связи с этим сочинил хитрый план.
Когда муж нашей дамы оделся в сапоги с портупеей и отправился исполнять служебный долг, Олухов тоже оделся в сапоги с портупеей и притворно сообщил жене, что срочно отбывает на службу. Сам же выйдя из комнаты в коридор и оглядевшись по сторонам, юркнул в соседнюю дверь, за которой проживала мечта его сердечных грёз.
Там он и провёл остаток дня, всячески доставляя удовольствие себе и соседской даме. Кроме сердечных удовольствий они вдоволь побаловали себя коньяком и прочими вкусностями, а ближе к полуночи забылись крепким сном во взаимных объятиях.
Всё бы в этой истории ничего, но жизнь даже в романтической ситуации обязательно проявляет свою казёнщину и обывательщину. Приспичило сонному Ромэо среди ночи справить малую нужду. Одел он тапки, какие подвернулись под ногу и привычно, как есть в трусах и майке, направился в конец коридора в общественный туалет. Отправил там естественную надобность и сонно поплёлся досыпать.

Тут привычка, выработанная годами, и сыграла с ним злую шутку. Точнее даже сказать подсунула свинью в виде законной жены. Вместо того, чтобы возвратиться к дамочке, у которой скомкано валялась его военная форма с портупеей, он привычно направился в свою собственную комнату, где его ничего не подозревавшая жена одиноко сопела на супружеском ложе. Зайдя в свою комнату, он уверенно забрался в постель и собрался мирно досыпать до утра.
У жены, которая проснулась от того, что кто-то не спрашивая разрешения, среди ночи залез к ней на кровать, сначала испортилось настроение. Но когда она включила свет и обнаружила собственного мужа одетого лишь в трусы, майку и чужие тапочки, настроение стало ещё хуже. Она давно подозревала мужа в пристрастиях к соседской вертихвостке, а тут весь его хитрый план стал виден ей как на ладони.
Обнаружив супружеский обман, она ничего лучшего не придумала, как начала орать во всю мощь своей глотки. Не глядя на попытки мужа успокоить её, она решительно пошла в комнату к смазливой соседке, нашла скомканную форму мужа и по всем законам жанра вцепилась той в волосы. После проделанной процедуры она дала подробнейшие разъяснения жильцам коридора, которые сбежались на её рыдания и вопли крашенной вертихвостки.
Дело пол учило весьма масштабный резонанс. В некотором смысле оно даже получилось показательным. Произведя обширные разборки и целую кучу заседаний, Олухова, как вступившего с посторонней дамой в секс и другие половые связи, оказавшегося нестойким в моральном отношении, исключили из академии. Естественно, вместе с женой.
*
Бывало, что для законных жён подобные дамочки и вовсе оставались неизвестными. Но мужья всё равно через этих дам страдали. Видать в делах сердечных без страданий обойтись никак не получается.
Вернулся как-то слушатель академии с рыбалки. Всё пристойно. Улов принёс – только позавидовать. Огромную щуку притащил, килограмма на три с гаком. Жену при встрече поцеловал, щуку отдал. Чего бы казалось нужно? Нет. Недов- После Маркса, разумеется.ольная жена и всё тут.
Не нравится ей, что муж с рыбалки трезвый пришёл. Другая бы радовалась, а эта губы дует. Не верится ей, что мужик всю рыбалку мог трезвым просидеть.
Мало того, что губы надула, она ещё с соседками по общественной кухне советоваться начала. А тем понятное дело только повод дай. Нашла с кем советоваться.
- Правильно, - говорят те, - не бывает так, чтобы мужик с рыбалки трезвым пришёл. Не чисто тут.
Давай ей всякие случаи вспоминать, кто какие слышал, да эту, которая с рыбой поучать. Испортили бабе настроение или точнее подогрели, нервы взвинтили. Но, а с рыбой что-то делать надо. Рыба, она долго не лежит. Распухать начнёт, если промедлить.
Начала бедная женщина рыбу чис тить, с хвоста, как положено. Почистила, чешую убрала. Пришло время внутренности доставать, но нож упирается и внутрь не идёт. Раз тыкнула, два, не идёт нож. Начала она рыбу расковыривать, надо же с этими чудесами разобраться. Как расковыряла, так и ахнула. Лёд внутри у рыбы оказался. Мороженная это щука была. Стало быть, из магазина её муж принёс, а не с рыбалки.

Взыграли в женщине обманутые чувства. Решила она, что муж трезвый и с мороженой рыбой, потому как не с рыбалки он пришёл, а от любовницы. Может надо было у мужа объяснений потребовать, расспросить. Может он просто на рыбалке не поймал ничего, вот и решил через магазин свою неудачу скрыть? Но не до того уже женщине было. Да ещё соседки накрутили.
Тут как раз муж на кухню заходит. Улыбается. Эта-то улыбка в конец супругу и довела. Схватила раздражённая женщина мужнюю щуку за хвост, да и дала этой щукой мужу по голове. Только не подумала она, что щука внутри ледяная, вот муженьку голову-то и проломила.
Так что перевели потом мужа с лётного профиля на нелётный. Нельзя после такой травмы на лётной работе оставаться. Да, натерпелись в академии от женщин. Главное, в основном от своих.
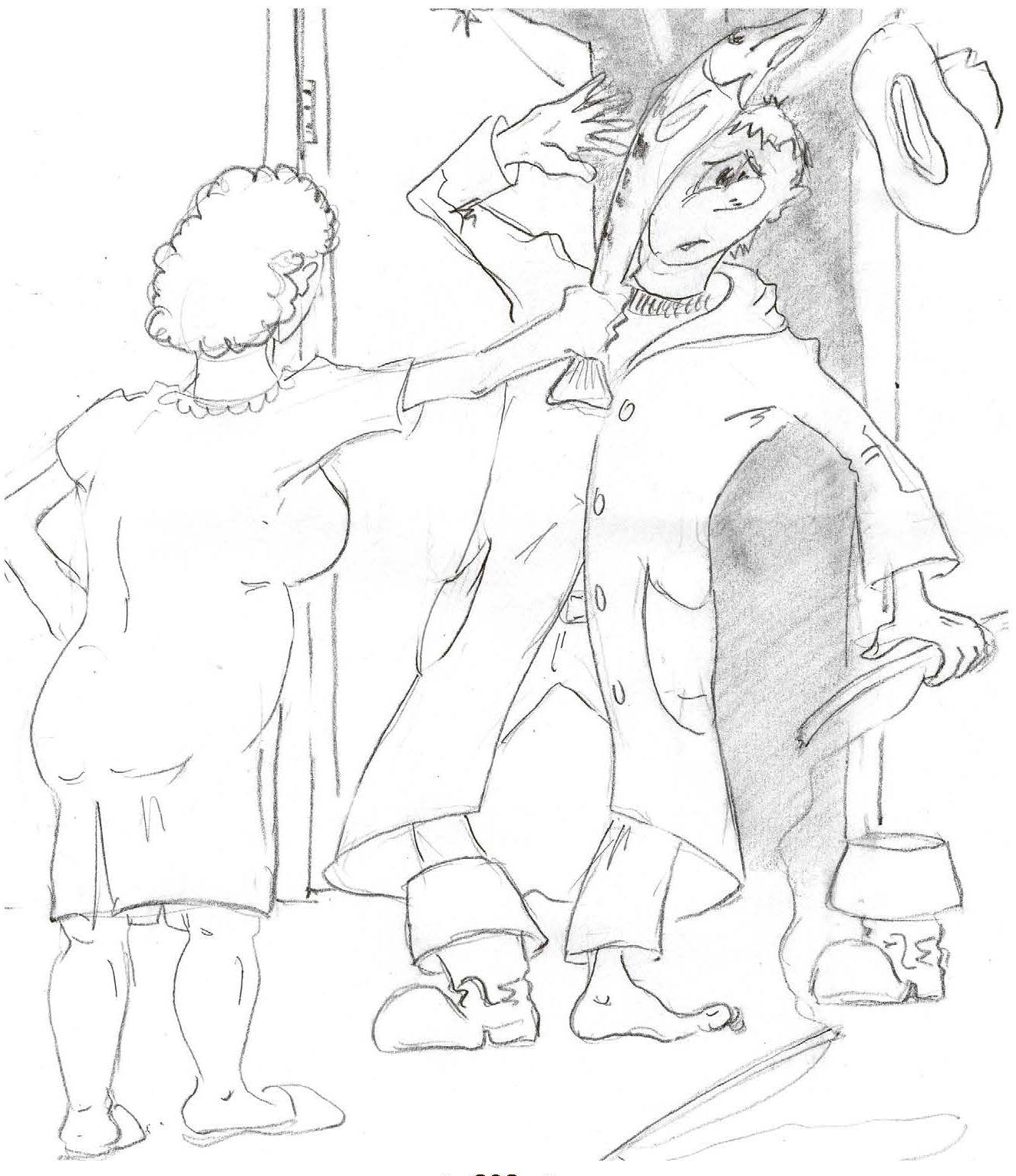
Экипаж
В отличие от боевых самолётов, транспортные имеют многочисленный экипаж. Помимо командира обязательно есть второй пилот, штурман, бортинженер, радист. На более крупных машинах в состав экипажа включаются борттехники, бортмеханики и бортовые стрелки.
Психологический климат в экипаже крайне важная вещь. Ведь кроме самой огромной машины в воздух поднимаются всякие ценные механизмы, вооружение, боеприпасы и самое главное люди. Приличный транспортный самолёт за раз берёт на борт более сотни пассажиров.
Понятно, что на экипаж самолёта возлагается огромная ответственность. Экипаж обязан работать слаженно, чётко, выверено и грамотно. Любые «натянутые» отношения в таком небольшом коллективе могут привести к серьёзным последствиям.
А сохранность доброжелательных отношений между людьми, находящимися по су- А я здесь причём? – пожимаю плечами. – Это не я. Это Ленин. Особист молчит и на меня смотрит. О чём думает? Да кто ж его знает. ти в «замкнутом» пространстве, вещь крайне сложная. Люди месяцами практически не отходят друг от друга. После многочасовых перелётов они вместе идут спать в КЭЧевскую гостиницу. Там, понятное дело, отдельные номера не предусмотрены. После отдыха снова многочасовые перел ёты.
А бывает, что и гостиницы никакой нет. Зачастую экипажи транспо ртных самолётов ночуют непосредственно в самом самолёте, в котором, естественно, нет ни кроватей, ни умывальников, ни даже туалетов.
«Ночевать» приходится и днём, если перелёты происходили ночью. Причём сегодня в раскалённой песчаной пустыне, а завтра в вечной мерзлоте в условиях полярной ночи.
При этом транспортные экипажи встречаются со своими семьями намного реже, чем моряки. Что опять, понятно, накладывает отпечаток нервозности в отношениях между людьми.
При подборе экипажей стараются учитывать «совместимость» её членов. Хотя военным командованием такие вещи зачастую игнорируются (и командиров можно понять). Составы экипажей закрепляются установочным приказом, и такие приказы стараются не менять. Бывает, что некоторые экипажи летают годами в одном составе. Такие экипажи стараются не «разбивать».
Понятно, что при столь суровом и интенсивном образе жизни люди остаются людьми. Им так же иногда хочется расслабиться, устроить маленький праздник для тела и души.
Благодаря изобретению светокопии нам в руки попал документ, где как раз речь идёт о небольшом празднике, произошедшем в экипаже после выполнения очередного задания. Точнее о последствиях простого человеческого расслабления. Документ сильно истёрся, поэтому представить его в читаемом виде возможно только перенабрав обычным шрифтом. Фамилии и события, надо понимать, подлинные. Пожалуй, ещё одно пояснение, экипаж в командировку запасную обувь не берёт.
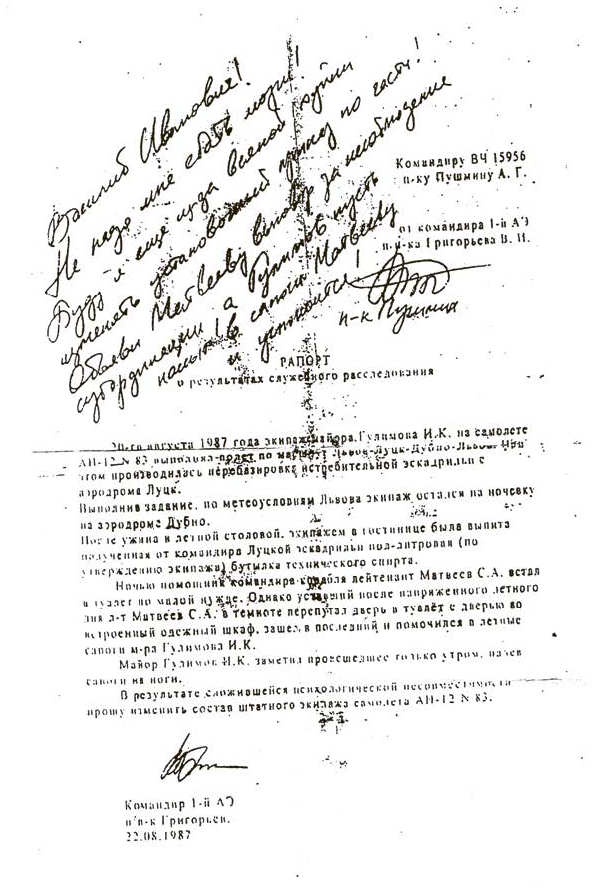
Командиру В/Ч 15956полковнику Пушкину А.Г.
от командира 1-й авиационной эскадрильиподполковника Григорьева В.И.
РАПОРТ
o результатах служебного расследования.
20-го августа 1987 года экипаж майора Гулимова И.К. на самолёте АН-12 № 83 выполнял полёт по маршруту Львов – Луцк – Дубно – Львов. При этом производилась перебазировка истребительной эскадрильи с аэродрома Луцк.
Выполнив задание, по метеоусловиям Львова, экипаж остался на ночёвку на аэродроме Дубно.
После ужина в местной столовой, экипажем в гостинице была выпита, полученная от командира Луцкой эскадрильи (по утверждению экипажа), бутылка технического спирта.
Ночью, помощник командира корабля, лейтенант Матвеев С.А. встал в туалет по малой нужде. Однако уставший после напряжённого лётного дня лейтенант Матвеев С.А. в темноте перепутал дверь в туалет с дверью во встроенный шкаф, зашёл в последний и помочился в лётные сапоги майора Гулимова И.К.
Майор Гулимов И.К. заметил происшедшее только утром, надев сапоги на ноги.
В результате сложившейся психологической несовместимости прошу изменить состав штатного экипажа самолёта АН-12 №83.
Командир 1-ой АЭ подполковник Григорьев.
Решение командира полка по данному рапорту приводим дословно:
Василий Иванович! Не надо мне е…ать мозги! Буду я ещё из за всякой ху.ни изменять установочный приказ по части! Объяви Матвееву выговор за несоблюдение субординации, а Гулимов пусть нассыт в сапоги Матвееву и успокоится!
полковник Пушкин.
Армейский рай
В подтверждение философской мысли о том, что «всё когда-нибудь кончается», закончилась и моя служба в Грузии. Обстановка в оной республике СССР к моему отъезду была уже накалённой, даже скорее жаренной. Всадники Гамсахурдии ещё не разъезжали по селениям, но призраки их уже местами проявлялись.
Используя сложившуюся ситуацию и коньяк с Азербайджанских заводов, родители помогли мне добиться перевода в Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту, сокращённо ДОСААФ. Поскольку местное начальство к тому времени интересовало лишь состояние собственного кожного покрова – меня почти без проволочек и сожаления отпустили в центр России. Я расстался с весёлыми, гостеприимными грузинами, сохранив о них весьма светлую и добрую память.
По прибытии в Калужский авиационный центр ДОСААФ в первом же разговоре с начальником я узнал, что перешёл кому-то дорогу. О казывается, он ждал на моё место совсем другого человека. Поскольку я всю жизнь занимался тем, что был неудобен начальству, то по существу он не сообщил мне чего-то нового и даже интересного. Я, признаться, совсем не собирался возвращаться в Грузию, где к тому же меня не ждали.
Закончив на этой тёплой ноте, он приказал разместить меня в гостинице. Гостиница оказалась «беззвёздочная», говоря современным языком, но после Закавказья мне она представлялась верхом цивилизации. Я открывал водопроводный кран, и оттуда в любое время суток к удивлению текла вода. К такому наша военная братия категорически приучена не была.
Утром ровно в девять меня представили офицерскому составу. Офицеров, однако, на весь центр было меньше двух десятков. Далее начальник произнёс речь о неукоснительном повышении дисциплины и отпустил всех работать «по плану».
Мой новый командир эскадрильи – Александр Иванович повёл меня знакомиться с лётным составом эскадрильи, который поджидал нас тут же, возле штаба. Представив меня, комэск начал выяснять планы работы лётчиков.
- Я сегодня буду на даче, - сказал первый.
- Мы с Серёней пойдём ко мне в гараж, - сказал второй и показал на Серёню.
Серёня утвердительно кивнул, а комэск предупреждающе погрозил пальцем, мол, смотрите, не переборщите.
- Я дома посижу, - доложил четвёртый.
В принципе остальные доклады были похожего содержания.
Исключение составил лишь тот, который собрался на Украину:
- Командир, у меня пять отгулов накопилось. Я к своим махну на Украину.
Мне было до слёз непонятно, как после услышанного комэск собирается построить р- Как на рыбалочке? – немного опешили исследователи.аботу сегодняшнего дня? Кто и что сегодня должен делать? Где? В каком месте? Кто это будет контролировать? И какого результата ожидать в конце сегодняшней работы?
Что это – розыгрыш или надо мной просто издеваются? Мне хотелось это понять, но, в то же время, было ясно, что любым подобным вопросом я поставлю себя в глупое положение. Поэтому, когда все разошлись, я скромно вымолвил лишь:
- Как это – на Украину?
- Ну, понимаешь, - комэск почесал затылок, с сомнением – вряд ли пойму его объяснения, - человек сходил в наряд…
- Куда? – уточнил я.
- Да на проходной, где шлагбаум… Ну, ты должен был видеть. Так вот человек сходил в наряд на сутки, то есть пробыл на работе 24 часа. Значит, 8 часов он отработал свои законные, а остальные 16 часов – переработка. Понятно?
Мне, естественно, ничего не было понятно, но чтобы не выглядеть придурком я утвердительно кивнул. Однако, кивок не переубедил комэска относительно моего внутреннего состояния:
- Значит, эти 16 часов человеку следует оплатить.
- Оплатить? – переспросил я, очевидно голос выдал моё изумление.
- Да, оплатить, - видя моё гнетущее непонимание, комэск решил подкрепить свои объяснения теорией. – Ты, возможно, читал, что «каждый неоплачиваемый труд есть рабство». Ленин. Том 19.
- Возможно, читал, - подтвердил я неопределённо.
- Вот, - обрадовался Александр Иванович. – Значит, человеку нужно оплатить труд. Но ведь это не выгодно предприятию, то бишь центру. А как из этой ситуации выходить?
- Как? – поддакнул я в вопросительной форме.
- Надо, чтобы человек не ходил на работу два дня. И тогда эти 16 часов пойдут как бы в зачёт этих выходных. Понятно?
- Понятно, - ответил я.
В теории объяснения мне как бы были понятны, но рассудок отказывался верить услышанному.
- А почему пять? – спросил я ещё.
- В смысле пять? - не понял комэск.
- Он сказал, что у него накопилось пять отгулов. Если, например, два и два то будет только четыре?
- А, так это за праздничный наряд. В праздники ведь никто не работает. Значит, за праздничный день центр ему должен не 16, а все 24 часа. То есть получается три дня отгула. В праздничный наряд очень трудно попасть. Там отдельная очередь.
- Зачем очередь в праздничный наряд? – спросил я пожалуй каким-то уже безразличным тоном.
- Так два и три будет пять, - снова обрадовался комэск. – В пятницу вечером на Украину уезжает, и только в понедельник через неделю должен на работе появиться. Девять дней вместе с выходными получается. Во сколько гулять можно. Маленький отпуск, можно сказать, образовывается. А если у тебя не пять отгулов, а всего четыре, то отпуск не складывается.
Я стоял возле штаба авиационного центра, но ощущение у меня было, будто это не я. Это был какой-то параллельный мир, сомнительной реальности. В войсках вместо награды за два наряда можно было рассчитывать только на выговор. На этом рог изобилия перекрывал своё щедрое хлебало. А тут девять дней… Можно ли считать это правдой?
И куда? На Украину. Это же в другую республику!
В Закавказье, чтобы во время законного выходного дня съездить в районный центр позвонить родителям по междугороднему телефону, требовалось заранее писать рапорт на имя командира дивизии. Поскольку районный центр считался уже другим гарнизоном. И не факт, что рапорт будет удовлетворён. Если бы вдруг кто-то в полку просто так решил съездить на Украину на девять дней, дело неминуемо закончилось бы военным трибуналом.
Что же получается? Пока я в войсках выворачивался наизнанку, наматывая на кулак собственные нервы, где-то вот так спокойно жили люди, не зная авралов и тревог (в том числе учебных и боевых)? Не ведая армейской тупости и идиотизма? Всё это время они спокойно ходили на работу, радовались, и ездили на Украину за два вшивых наряда?
Комэск угадывая моё состояние, озабоченно оттянул мне веко.
Заглянул в глаз. Потом сочувственно похлопал по плечу:
- Ничего, не расстраивайся. Привыкнешь. Все через это прошли. Постояв немного, комэск снова по-отечески спросил:
- Ты уже устроился?
- Да, в гостинице, - махнул я в сторону гостиницы.
- Ну иди, отдохни. Завтра смотри не опаздывай, - предупредил он.
- Куда не опаздывать, - безразлично уточнил я.
- К начальнику центра на совещание, - уточнил он. – Ровно в девять. Утра.
- А куда сейчас идти, - снова уточнил я.
- К себе. Ты же сказал, что устроился.
- Да, устроился, - подтвердил я, и ничего не понимая поплёлся к себе. Я механически зашёл в комнату (это всё же был не номер) и сняв фу-
ражку сел на стул. Надо было разобраться в ситуации. Весь мой первый рабочий день на новом месте службы меня посылают сидеть в гостиничном номере (чёрт с ним, пусть будет номер). Что это может означать?
А что это может означать, кроме того, что в рабочее время я не нахожусь на рабочем месте? Я попросту совершаю прогул в рабочее время. Чем такие вещи обычно заканчиваются? Заканчиваются они строгим дисциплинарным взысканием. Значит, если сейчас сюда заходят три представителя командования и комиссионно составляют протокол – мне уже не отвертеться.
Что же происходит? Кому это нужно? И, главное, зачем? Тут-то и вспомнилось, как начальник давеча намекал, что рыло ему моё в новой должности не пришлось. Ага, вона как выходит! Выходит, меня здесь специально посадили задницей табуретку греть. А за всем этим тайна зловещая скрыта. Не ко двору я стало быть пришёлся. Извести меня решили. Вот она Рассея! Кругом советская власть, а порядки как при царизме.
Вот значит что – в ловушке я. Только как же? Не согласные мы! Тоже не лыком шиты! Не с помойки же мы сюда приехамши. Вот пойду я сейчас, да и сяду на своём рабочем месте. Пускай потом скажут, будто я прогульщик.
Встать бы и пойти – оно, конечно, здорово. Только куда идти? Мне же рабочего места не показали. Я даже не знаю где моё рабочее место! Вот обложили! Со всех сторон. Как волка в берлоге. Или кто тут у них в берлогах водится?
Стало быть, нужно мне выспросить у кого-то где я тут работаю? Выглянул я в окно. За окном очередь в магазин стоит. Стал я эту оче-
редь изучать – кого бы мне порасспрашивать? Только бабки там одни. Мужиков всего два, буквально, да и те старые, как эти бабки. Разве у таких чего выяснишь? Надо помоложе кого-нибудь сыскать. Видать сидя здесь ничего я не узнаю. Надел фуражку и вышел из номера (комнаты).
Тут, прямо в коридоре мне и попался мужчина. Нестарый. Примерно одного со мной возраста. Сам из умывальника выходит, а в руках кастрюля с водой.
- Ага, - думаю, - на ловца и зверь бежит.
Только гляжу, а личность-то мне его будто знакомая. Видел я его уже где-то, стало быть. Он на меня глянул и тоже узнал. Значит, не ошибся я.
- Так ты здесь, что ли? – спрашивает, причём приветливо так.
- Да, третий номер, - отвечаю.
А сам думаю, где же я его видел? Хотя чего думать, я кроме совещания нигде и не был. На совещании у начальника значит и видел.
- Так ты сосед у меня, выходит, - прямо радуется новый знакомый, - а чего в форме?
Вот и думай здесь. Если он к управе местной приближённый, значит, в курсе насчёт меня должен быть. Только кастрюля его никак на серьёзный лад не располагает. Нечто он на серьёзное дело с кастрюлей в руках собрался?
Тут и вспомнил я. Точно! На совещании я его видел. Майор он. Чего же он тогда меня про форму спрашивает, когда сам сейчас в форму должен одетым быть, и по своему рабочему месту ходить?
А он моей озабоченности и не замечает. Улыбается.
- Заходи ко мне, - говорит, и на ближайшую дверь кивает. – Пообщаемся. С женой познакомлю. Только сними ты эту форму. Ходишь как пугало.
Ну и что же теперь офицеру думать? Жертва я флажками обложенная или я это всё себе в уме нафантазировал? Может вовсе меня никто в берлоге не обложил, и ловить не собирается?
Куда в этом ДОСААФе ни ткнёшься – ничего не понятно. Как тут работают? Где работают? И почему меня в рабочее время в форме за пугало должны признавать?
Переоделся я и пошёл к нему. В комнату вошёл – эге! А картина-то мне знакомая. Ящики кругом, да мешки. Временное это жилище. И живёт он тут со всей семьёй. На это у нашего брата глаз намётанный. Сами сколько раз вот так перебивались.
- Валера Комзарёв, - представляется он. – Начальник второго технического отряда. А это моя жена Галя.
- Очень приятно, - отвечаю, и тоже представляюсь.
А Валера сходу мне рассказывать начинает. Только он всё про гостиницу рассказывает, в которой мы живём. Я-то соглашаюсь. Гостиница – это единственное с чем я знаком. Но я про гостиницу слушаю, а сам, сверкая ленинским прищуром, плавно стараюсь его к теме интересующей подвести.
Однако, не подводится он. Про работу ни слова. После гостиницы на огороды перешёл, да так основательно, что от меня самого скоро огурцами запахло. Не выдержал я. Отбросил хитрость деревенского простака, и в лоб ему вопрос ребром:
- А вот на службу ходить, - спрашиваю, - это как… в смысле, где… в смысле, куда?
Валера аж опешил от такого вопроса:
- Приедут курсанты, тогда и будем на службу ходить. А сейчас чего на неё ходить?
Но я-то не успокаиваюсь, на своём стою:
- А сейчас-то чем заниматься?
- Чудак-человек, - возмущается Валера, - я же тебе битый час толкую: сейчас все занимаются огородами. И ты давай не отлынивай, с семенами помогу, саженцев добрых посоветую.
- Что хотите делайте, - горько вздыхаю я, - только ничего мне сейчас не понятно. В вашем ДОСААФе без бутылки не разберёшься.
- Вот, - кричит Валера, - сразу видно – наш человек. А то всё про службу, да про службу. Жена, где там у нас свеженькая самогонка? Спасибо Горбачёву, хоть домашнее производство наладили. Теперь в магазин бегать не требуется!
…Оказалось, что в этом самом ДОСААФе никто без надобности на службу не ходил. Никто с умным видом бестолку штанов не протирал. И вообще маяться дурью у них было не в моде. Соответственно, никто меня сторожить в берлоге не собирался, а в форме ходили только когда приезжали курсанты для обучения. Оказывается, ДОСААФ существовал все эти годы, не зная, что такое дурошлёпство, самодурство, военный идиотизм и командирские истерики.
Как в советское время мог существовать островок разума, добросердечности и порядочности – не понятно? К тому же он не только существовал, он ещё и процветал. И это в почти военной организации? Поистине я столкнулся с чудом.
Конечно, раньше до меня доходили слухи о «хорошей» жизни в ДОСААФ, но я считал их обычным преувеличением. К тому же рассказы о ДОСААФ всегда сопровождались уменьшительными оценками, мол, это колхоз, пытающийся чем-то походить на армию, но у него ничего не получается. В армии, мол, молодцы, а в ДОСААФе… так себе.
На самом деле калужский авиационный центр имел в своём распоряжении 80 единиц реактивной техники. Да, это были не боевые, а учебные самолёты, но тем не менее настоящие – реактивные. Налёт, который выдавал наш учебный центр за год, превышал налёт боевой реактивной дивизии за тот же период.
Не глядя на отсутствие бестолковых построений, оглушительной муштры, пронизывающей партийной критики и зажигательной военной дурости, центр функционировал как часики. План всегда выполнялся точно и в срок, без грубых нарушений дисциплины, лётных происшествий и предпосылок к ним.
Если в войсках за день меня меньше трёх раз обматерили, то такой день считался выходным. Здесь мне все улыбались, приветливо здоровались и спрашивали: «Чем помочь?». Я сам забыл, что такое кричать на людей, пугать их, грозить и обещать всякие гадости.
Конечно, какая бы замечательная система не была, но состояние душевного счастья и покоя зависит в первую очередь от людей. Калужский центр процветал благодаря своему начальнику Косенкову Александру Петровичу. Это был самый замечательный командир, которого я когда-либо встречал на свете. Прежде всего он был прирождённым организатором. В центре никогда не случалось авралов, сложных положений или неожиданных ситуаций. Любой вопрос решался чётко и легко в рабочем порядке. За всё время на действия командира не поступило ни одной жалобы.
Да, бывало Александр Петрович не выходил на работу после ответственной рыбалки или ещё какого торжественного мероприятия, но фокус в том, что центр об этом даже не догадывался. Как великолепный организатор Александр Петрович наладил работу центра так, что его личное присутствие практически не требовалось. А ведь это высшая ступень организаторского мастерства, о котором все много слышали, но на практике его никто не видел. Так вот мы видели!
Кроме того, Петрович был «танк юмора». Когда он кого-нибудь отчитывал или даже ругал на общем собрании, народ из отгулов сбегался его послушать. Во время его ругани передние ряды закрывали лица руками и беззвучно трясли плечами, а задние откровенно падали под лавки со смеху. Проштрафившийся тут же смеялся вместе с остальными. Представьте, за все годы командования центром он не обидел ни единого человека.
После дурдома в форме армейской мясорубки я уже не «служил». Я тихо млел от счастья, не переставая удивляться, что всё это происходит на самом деле и именно со мной.
Если наличие небесного Рая является предметом не прекращающихся споров, то армейский Рай на свете существовал. Я живой свидетель существования такого Рая. И теперь я точно знаю: если человек служит честно и думает прежде всего о защите своего Отечества, под конец службы ему обязательно уготован служебный Рай.
Митька 2
Когда из Афганистана на родную Грузинскую землю прибыли, сменился у нас командир полка. И случился некий перехлёст в отношениях. Старый командир полковник Ильичёв нас как облупленных знал, и мы ему по жизни боевыми товарищами приходились. Ругал он нас по всякому, драл бывало ни за что, но это всё по-свойски происходило, полюбовно. А с новым любви откуда взяться? Только это не самое главное. Новое начальство – оно невоевавши было. Оно, значитца, по старинке нас войной пугать хотело, и при этом умным выглядеть.
Была тогда такая мода. Начальство торжественно произносило:
- А вдруг завтра война?!
Всем тут же страшно пугаться было положено, а командира при этом шибко умным считать. Везде это практиковалось и почиталось за норму. Но в нашем случае не очень нормально получалось. Когда невоевавший командир полка начинал воевавший полк войной пугать, даже как-то на юмор смахивало.
Но новый командир, свою линию всячески гнул, а к несогласным лишние репрессии применять не стеснялся. Его вроде даже просили линию пересмотреть, но он на этой линии настаивал. Поглядел на такие дела народ, да и начал потихоньку рапорта на увольнение писать. Но это те, у кого 25 лет выслуги имелось. У лётчиков, правда, они быстро набиралось. А у Митьки 25-и ещё не доставало, и ему, стало быть, ещё служить требовалось. Но Митька на горе своё два красных диплома имел об образовании, начитанным был не в меру, да и пилотом от Бога. В виду перечисленных качеств, когда он с начальством спорил, то к несчастью частенько прав оказывался. Не понимал тогда Митька, что страшнее ничего на свете нет, когда подчинённые умнее начальства выглядят и при этом его не боятся. Начал новый командир за такие дела Митьку в бараний рог гнуть. Не сразу, конечно. Сначала просто воспитывал, через партию влиял. Упрекал Митьку в коммунистической недоразвитости, и слабой марксистской близорукости (сегодня, кстати, этот командир ответственный работник НАТО), а потом уже начал гнуть. Но Митька не гнётся. Документы всякие в пример цитирует, на инструкции ссылается. Одним словом начальству в глаза прямо смотрит, вместо того, чтобы начальство глазами есть. Ему уж из политотдела подсказывают:
- Согнись, Митяй. Дешевле обойдётся.
Только не слушает Митяй. Дальше ходит, как ни в чём не бывало. Но командир всё таки решил Митьке доказать кто тут умнее. Это котам, когда делать нечего, они полизать чего-нибудь ищут, а командиры всегда озабочены сбережением чувства собственной значимости. Поскольку, кроме скотства, другими методами доказательств командир не владел, то начал он банально обвешивать Митяя взысканиями, как новогоднюю ёлку шариками.
Хотя и здесь не всё гладко получалось. У взысканий особенность имеется. К ним нужно формулировки приделывать. А с формулировками делошло туго, поскольку наказывать Митьку было практически не за что. Командир, конечно, фантазию напрягал, изощрялся как Ги де Мопассан, но формулировки выходили непонятные, длинные и неубедительные.
Можно спорить, прав Митяй в своих действиях или нет, но когда ему это порядком надоело, он собрал эти формулировки и отправил по почте военному прокурору. А поскольку многие из них откровенно попахивали клеветой, он ещё подал на командира в трибунал.
Прокурор и трибунал, конечно, официально никак не отреагировали. Не было тогда практики на подобные заявления офицеров реагировать, но, очевидно, командиру втихаря намекнули, что из-за этих формулировок он сильно на дурака смахивает. Не надо, мол, больше таких глупых взысканий лепить.
Очень, кстати, своевременно. Личный состав полка очень над этими формулировками потешался, поскольку командир их перед строем зачитывал и при этом грозное лицо делал, что комичность усиливало.
В общем стал командир себя чувствовать, как между прядильным колесом и санями (просак, если попроще). Грустно ему стало жить и обидно. Печаль впилась в него своими слюнявыми губами, костлявой рукой поглаживала и горбом пугала.
Как же несправедливо получается? Человек всю сознательную жизнь чужие жопы вылизывал, представьте, как нагибаться при этом приходилось, может даже свою жену под вышестоящее руководство подкладывал, чтобы высокую должность занять. Сколько унижений пришлось принять и дерьма хлебнуть. Занял, наконец, должность. Теперь вроде все кланяться должны, улыбаться. Говорить ему, что самый умный и не замечать где он дурак. Иначе, зачем же он столько лет дерьмом давился? Чего ради усердие тратил? Это в наше коррупционное время должности можно приобрести за разноцветные бумажки, именуемые денежными знаками, а в советское время отношения были исключительно натуральными.
И вот находится такой, понимаешь, Митька, который к твоему титаническому труду в смысле говножуйства и облизывания анусов, выказывает полное безразличие и апатию. Не желает он простых вещей понимать. До чего Афган проклятый людей довёл.
Стал командир плохо спать и плохо выглядеть. Поскольку дело в Грузии происходило, может он даже по ночам галстуки от бессилия глотал, чем положил начало замечательной грузинской традиции (не глядя, что сам командир был эстонцем). Точно, конечно, этого никто не знает. Но никакие гадости восстановить настроение ему не помогли.
Понял командир безнадёжность своих потуг. Осознал, что ничего у него с Митькой не получается. Побежал командиру дивизии жаловаться, мол, капитанишка у меня от рук отбился, умничает всевозможно, начальство не уважает, а самое обидное – народу это нравится. Комдив – генерал Тимошенко улыбнулся даже:
- Давай его сюда. Я вмиг перекушу, раз уж командир полка такой мягкотелый. Где этот капитанишка?
Комдив то он понимает, как непросто должности в армии достаются.
И начал комдив Митьку глотать и пережёвывать. От полётов отстранил. Сплетни начал собирать. Обстановку вокруг Митьки нагнетать. Тут полк на бомбёров стал переучиваться. Так комдив Митьку к переучиванию не допустил.
Только и комдиву Митька в глотку не пролазит. Встал поперёк и ни туда, ни сюда. Тут нужно оговориться, всё что с Митяем вытворяли было не только не по-человечески, но ещё и не по-юридически. Потому взял Митька и накатал письмо в ЦК КПСС. Вы же типа наверху у себя о народе печётесь, вот разбирайтесь со своим коммунистом. Вам должно быть без разницы генерал он или рядовой.
А письмо в ЦК тогда, надо сказать, это не то, что теперича. Нынче куда хош пиши, твоим письмом и подтираться никто не станет. А тогда на каждое письмо реакция была непременно. Хоть своеобразная, но была. Посетила дивизию комиссия из Главпура (Главное Политическое Управление МО СССР). Но дело вышло не в комиссии. Комиссия - она так, кашу по столу размазывала, и общие фразы о строительстве коммунизма произносила, хотя, понятно, всё равно для комдива неприятно.
Дело совсем в другом вышло. Оказалось, генеральская должность – до безобразия лакомый кусок. Даже при социализме любой полковник без мысли о генеральских погонах не засыпал. Полковники, они днём генералу нижайше улыбались, а вечерами гадали размышляючи, где бы этой генеральской морде подножку соорудить. И стали всевозможные полковники Митьке компромат подкидывать: куда Тимошенко АН-2 по личным делам посылал, где шкуры с ценным мехом перепродаёт, зачем жена его на служебной машh2 align=Как же несправедливо получается? Человек всю сознательную жизнь чужие жопы вылизывал, представьте, как нагибаться при этом приходилось, может даже свою жену под вышестоящее руководство подкладывал, чтобы высокую должность занять. Сколько унижений пришлось принять и дерьма хлебнуть. Занял, наконец, должность. Теперь вроде все кланяться должны, улыбаться. Говорить ему, что самый умный и не замечать где он дурак. Иначе, зачем же он столько лет дерьмом давился? Чего ради усердие тратил? Это в наше коррупционное время должности можно приобрести за разноцветные бумажки, именуемые денежными знаками, а в советское время отношения были исключительно натуральными.ине в соседнюю республику ездит, что из военторга до офицеров не дошло, а в грузинских магазинах всплыло и т.д.
Короче, стали эти полковники Митьке Тимошенко сливать немилосердно и нежалеючи. Накатал Митька уже другое письмецо с фактами и безобразиями. К тому же своим именем подписался. Это для комдива совсем худо. А у комдива, надо сказать, без этого происшествий хватает: там самолёт подломили, там машина перевернулась, там в карауле по ошибке не того застрелили, а тут сам повесился. Комиссий без этого плановых больше чем требуется, а тут ещё митькины начали с фактами разбирать- ся. Расшатал короче Митька стул под комдивом. Тучи над ним сгустились. А генеральскую должность страсть как терять жалко. Понял он, что зря капитанишку дразнил. Начальство, оно только на первый взгляд грозное, а чуть ногтём ковырнул – внутри завсегда труха.
Делать нечего. Побежал комдив командующему на Митьку жаловать- ся. Только командующий бахвалиться понапрасну не стал. Сразу смекнул, что не унизить им Митьку. Да и наслышан о нём был уже порядком. Однако, решил Тимошенке помочь. Генерал генералу, как говорится, глаз не выклюет.
Приеemp хал вскорости в гарнизон по Митькину душу сам начальник отдела кадров округа. Вызвал Митьку к себе и без свидетелей ему сообщает:
- Уважаемый Митька, - говорит, - я тут рапортец от твоего имени накропал, об увольнении из Вооружённых Сил по сокращению штатов, и рекомендую тебе его незамедлительно подписать. А ежели ты этого не сделаешь, то даю слово офицера уволю тебя по дискредитации воинского звания. Указания соответствующие я уже получил. И потому костьми лягу, но уйдёшь на гражданку без пенсии.
Посидел Митька, репу почесал. Хрен он теперь когда квартиру получит с такой формулировкой. Зря выходит летал, воевал. Только делать нечего. Так иp align= пенсию, хоть и обрезанную, заберут. Пенсия – не шутки. Такое не восстанавливается. А глаза у кадровика честные. По всему видно не врёт, и сделает как обещал. Вздохнул Митька и подписал рапорт по сокращению штатов. Тут и военным быть не требуется, чтобы понять почём пенсион (хоть и обрезанный).
Так вот военная служба его и закончилась. И боевой опыт, и первый класс ничто по сравнению с недовольством начальственным. Есть в мире вещи незыблемые и нерушимые.
Выбрал Митька себе местечко под Киевом – Вышгород. Встал там в общую очередь на квартиру и тихо зажил. От Киева десять минут езды. Вроде и на свежем воздухе, а практически столица.
Вот жил бы себе и жил. Спрашивается, чего ему не жилось? Нет, понимаешь, небо ему подавай. Всем в своё время увольняться пришлось, и небо, понятное дело, вспомнить хотелось. Вечерком в гараже по бутылке накатили и вспоминай себе на здоровье. Надо, так и в жилетку друг дружке поплакаться можно. А утречком на работу. Кто сторожем на склад, кто вахтёром в офис. В общем, всё как у людей.
Этому же всё не так. Штурвал ему в руки. Да ещё, на беду, как-то ко мне в гости в ДОСААФ заскочил. Заехал к старому боевому другу. Потоптался у самолётов. Воздушка ноздрями втянул. У самолётов запах особенный. Калёная дюраль, она по-своему благоухает. В общем, уехал от меня задумчивый. В смысле задумал чего-то. И точно задумал. Я из него после выудил. Решил дальше за карьеру свою лётную биться.
Вернулся он к себе в Киев, собрал документы и прямиком в Центральный Комитет ДОСААФ Украины, в лётный отдел. Зашёл к самому главному. Лётную книжку на стол, орденскую, дипломы свои красные и прочую дребедень тоже выложил. А сам думает, может возьмут его в какую-нибудь Запердяевку на Ми-2 праваком. Больше счастья Митьке и не нужно. Бывают такие. Им лишь бы летать.
Главный документы полистал, почитал, что требуется, и Митьку спрашивает:
- Пойдёшь инспектором ДОСААФ Украины?
Во как! В ДОСААФе оказалось кадрами не разбрасывались, это вам не армия. Митька, естественно, сразу согласился. И началось. Пустили козла в огород.
Освоил все типы летательных аппаратов, какие в ДОСААФе нашлись. И реактивные, и винтовые, и вертолёты, и планера. Мотался по всей Украине. День и ночь из кабины не вылезал. Начальство не нарадуется. А тут ещё подфартило – надыбал он контейнер на аэродроме. Пожитки туда перевёз, койку поставил. Нет, Митяй, конечно, и в самолёте мог бы спать, но там катапульта нераскладная.
Летал он так и летал в удовольствие. Только смежные организации тоже глаза имеют. Такие пришибленные как Митька на огороде не растут. Это не картошка. Таких в авиационных училищах годами выращивают.
Подослали Митьке человечка из ГВФ.
- Чего это Вы Дмитрий Владимирович по мелочам себя распыляете? – человечек спрашивает. – Всё у Вас тут Ми-2, Ан-2, да планера. В ГВФе, к примеру, Ан-12-е имеются и Ту-154. Вот и занялись бы серьёзным делом. Нынче таких, которые на работу, как на случку торопятся совсем мало. Мы бы Вас с удовольствием приняли. И не просто в ГВФ, а в госнадзор. Там люди по всем статьям уважаемые.
В общем, перетянули Митьку в Гражданский Флот. И как видно не прогадали. Этому только дай. Летает себе Митька, надзорит. Ни сна ему не надо, ни еды. К тому же уважаемым человеком сделался. Можно сказать из гадкого утёнка белым лебедем поплыл.
А тут, как раз, Союз и развалился. Неразбериха началась. Ну чего рассказывать, все и так помнят. И всплывает тут Тимошенко, бывший Митькин комдив. Пристроился, значит, Тимошенко начальником управления боевого применения ВВС Украины. Пост, в принципе приличный. Следующая ступень – заместитель командующего Военно-Воздушных Сил.
Ну, а Митька же теперь в курсе всех дел. С первыми лицами общается, за руку здоровается. Как только Тимошенко на горизонте объявился, звонит ему Митька по внутреннему, и говорит:
- Здравствуйте.
А тот, как человек военный «здравствуйте» не признаёт, и грозно так спрашивает:
- Кто это?
Митька, естественно отвечает:
- Елизаров.
У Тимошенко грозный рык пропал. Молчит, не знает, как дальше быть. Тут, понятное дело, любой бы задумался. Неизвестно чего этому отщепенцу нужно? Он ведь теперь не под погонами, не прижмёшь. Да и кого прижимать? Митька не из робкого десятка. Капитаном генералов не боялся, теперь и подавно. Может этот гад вообще чего подлое задумал? Может миллион какой требовать начнёт или скажет, что за обиды свои с топором приду, к ночи жди, беседовать будем. Времена-то злые на дворе.
Напрягся Тимошенко, выдавил через минуту:
- Чего ты хочешь?
Засмеялся Митька. Ему то в ГВФе хорошо. Он про армию уже и вспоминать не хочет. Даже рад, что так с Тимошенко получилось.
- Да просто старому сослуживцу позвонить решил, - говорит Митька.
– Узнать хочу, как там наш гарнизон свою жизнь окончил. Сожгли его грузины, али живут в нём?
Выдохнул Тимошенко облегчённо.
- Заходи, - говорит, - расскажу.
И надо же такому случиться – задружились они. И по работе друг другу помогали, и по стопке вместе опрокидывали. Поди разбери в жизни – кто тебе друг, а кто враг? Вот как переплелось. Только, выяснилось, на Митьку и в других местах глаз положили. Подкатывает к нему новый человечек и с сильным акцентом пытает:
- Чего это Вы Дмитрий Владимирович всё задарма трудитесь? У нас Конго, хоть страна и небогатая, но тысяч шесть долларов в месяц для начала мы Вам определим. Не желаете ли шеф-пилотом авиационной фирмы потрудиться?
Это в начале девяностых годов, когда у нас зарплата 50 долларов за счастье была! Тут и выяснилось, какой Митька на деньги падкий. Бросил он батькивщину вместе с Киевом и махнул в ихнюю Киншасу. Погнался, стало быть, за длинным рублём, в смысле долларом. Только не знаю осуждать его или как? Если бы он Советский Союз покинул, тогда ясно – Родину бросил. А Украина ему вроде и не Родина получается. Он ей на верность не присягал.
Начал Митька Африку бороздить. Ему что? Где хочешь взлетит, где скажут сядет. В Союзе за такие дела ордена давали, а Митьке в радость. Ну и зелёные, конечно, отстёгивают регулярно.
Летает, значит, он радуется. Только жизнь на сюрпризы завсегда горазда. Неспокойно у них там в Африке. Воюют там без передыху. Стреляют днём и ночью. Вот и Митька попался. Всадили ему две пули из «калаша». Видать деньги зря нигде не платят. Да. Афган без царапины прошёл. Правда там и платили меньше.
Только Митьке, гаду такому, две пули нипочём. Раньше ведь в лётное с крепким здоровьем принимали, а он из бывших. Заштопали ему дырки, чтобы при ходьбе сквозняк не создавать и в организме от этого простуда не образовывалась, и дальше себе летает, как ни в чём не бывало. Другой бы после таких ранений хворать начал или совсем помер. А этому что? Штурвал на себя и в хмары.
Только это оказалось не всё. Судьба, видать, наваливает на человека столько, сколько он сможет выдюжить. Приобрёл себе Митяй японский мотоцикл. Самый мощный, самый дорогой. Мол, не могу я по земле ползать. Мне и тут летать охота. И стал он на этом мотоцикле по Африке носиться.
Но на мотоцикле – это не на самолёте. Самолётов в небе раз, два и обчёлся. А на земле лихачей – сколько глаз хватает. Не ты, так тебя. Долбанула Митьку в бок посольская машина. Авария страшенная вышла. Переломался Митяй практически совсем. Места живого не было. Местные доктора думали - конец. Нормальные люди после такого не живут.
Но тут, известно, не африканец какой малохольный был. Советский лётчик на стол к хирургам пожаловал. Слепили Митьку обратно. Все кости ему приставили. Но одну ногу ниже колена пришлось удалить. Не было там костей уже. Кисель один.
Вышел Митяй иредь изучать – кого бы мне порасспрашивать? Только бабки там одни. Мужиков всего два, буквально, да и те старые, как эти бабки. Разве у таких чего выяснишь? Надо помоложе кого-нибудь сыскать. Видать сидя здесь ничего я не узнаю. Надел фуражку и вышел из номера (комнаты).Из больницы вроде Сильвера. Только у того деревяшка была, а этот на импортном, железном протезе. И куда Митька отправился? Думаете искать кому на судьбу жаловаться и таблетки глотать? Нет. Всё этому социально опасному типу нипочём. Опять в самолёт забрался и, блин, дальше Африку бороздит.
- Маресьев, - говорит, - без двух летал, а без одной-то вообще никаких проблем.
А машина посольская, к слову, от богатого государства оказалась, и к тому же была не права. Оттяпал Митяй с них миллион долларов страховки. Я же говорю – всегда он стяжателем был. Своих деньжат к тому времени у него тоже буйно накопилось. А тут как раз Украина военную технику по дешёвке раздавала. Все помнить должны. Танки, самолёты оттуда рекой лились.
Вот Митька, стяжатель такой, самолётов-то и нахапал. Связи pсвои старые использовал, коррупционер, понимаешь. Надо ещё разобрать- ся, просто так у Тимошенко фамилия была Тимошенко, или не просто? Вдруг он какой Юлин брат по родственной линии? Работают эти самолёты теперь в Африке. И прилично так работают. Стал, короче, Митька мильёнщиком. Африканским, правда. Всё равно стяжатель.
Всё бы ничего. Я только за одно боюсь. У них же в Африке война не прекращается. Если этот Желpезный Хромец на старости лет сдуру в боевой самолёт пересядет, то жди беды. Этот уж народу накрошит. Всю Африку тошнить начнёт. Лучше пусть дальше извозчиком летает.
А если кто для интереса желает на наглую Митькину морду полюбоваться, то в интернете пошукайте. Найдёте, любуйтесь себе на здоровье.
Послесловие
Нас набрали со всего Советского Союза. Совершенно разных, даже по возрасту. Кому-то было 17 лет, кому-то 19, а курсовому старшине целых 22. С первого же дня нас начали «ковать». Каждодневные тяжёлые физические и психологические нагрузки в условиях практически тюремного режима стали нормой.
Очень скоро мы забыли, что на свете может быть что-то своё, личное. У нас не осталось ни личных интересов, ни личных вещей, ни личного времени. Даже трусы, одетые на нас были казёнными. Родители, братья, сёстры остались где-то далеко, в другой, прошлой жизни. Даже в простое увольнение первый раз я попал на восьмом месяце службы. Из личного каждый имел только жизнь, в биологическом смысле. Право на эту бесплатную штуку, так же нам не принадлежало.
Существует обывательское мнение, что взлетая в небо, человек остаётся как бы с ним наедине и чувствует себя свободным. Ничего подобного. Взлетая, курсант наоборот становился объектом всеобщего пристального внимания. За ним ежесекундно наблюдали десятки глаз. Ведь мы были заготовками, из которых изготавливался высококачественный продукт, своеобразное изделие. Каждый самостоятельный полёт в первую очередь являлся «проверкой качества». Поэтому после каждого полёта комбинезон обязательно был насквозь мокрый от пота.
Наши глаза стали способны считывать не менее семи блоков информации в секунду, а мозг за это же время безошибочно их обрабатывать. Мы стали точно определять расстояние до земли, облаков, самолётов и тенденцию сближения (удаления). Мы уже не считали, что находимся внутри самолёта. Летел не самолёт. Летели мы сами. Крылья, стабилизатор, элероны становились продолжением нашего тела. Мы «шевелили» ими не задумываясь. Точно так же, как обычный человек шевелит руками, ногами или бровями не осознавая, как у него это получается.
Система «ковала» из нас полноценных жителей неба, но её совершенно не интересовали наши переживания. Эмоции являлись достоянием исключительно курсантского коллектива. Вот здесь существовало полное понимание. Практически у нас никого не осталось кроме друг друга. Родственники при всём желании не могли представить себе наших переживаний. Не могли в полной мере радоваться нашим успехам и тем более помочь с преодолением трудностей.
Никто не мог в этом принять участия кроме небольшого коллектива. Здесь же каждого понимали без слов. Для коллектива «кислый» взгляд,
«дёрганье» на посадке или напряжённость в голосе была открытой книгой. Только здесь возможно было найти понимание и поддержку. Здесь становилось ясно, что хорошо, что плохо, что правильно, что нужно. Коллектив жестоко наказывал за душевную слабость, но он же давал силы преодолевать трудности.
Каркас каждого из нас в точности повторял каркас общего коллектива. Коллектив стал бронёй от личных слабостей. Понимание этого сблизило нас до степеней в обычной жизни невозможных. Обычно в таких случаях принято говорить: «Мы стали одной семьёй». Но мы стали не семьёй. Скорее мы стали единым организмом.
Посторонним людям невозможно представить себе с какой нежностью и заботой мы относились друг к другу. Но это была больше чем дружба. Дружбу можно предать. У нас же предательство исключалось. Девиз «сам погибай, а товарища выручай» воспринимался буквально.
Несколько человек мы сами «выкинули» из своего коллектива. Ещё на первом курсе мы обратились к инструкторам с просьбой не допустить их к самостоятельным вылетам, поскольку не желаем терпеть дерьма рядом с собой. Инструктора, в прошлом такие же курсанты, выполнили наши просьбы. Те, кто не сумели врасти в коллектив, были отчислены из училища по лётной профнепригодности. Понятно, что подобная «привилегия» существовала только для курсантов лётных училищ, в общевойсковых таких «инструментов» не существовало.
Конечно, можно вести речь о том, нам не довелось столкнуться со многими вещами, обычными для обычной жизни. Мы, например, никогда не задумывались, что мы будем есть, где жить и что одевать? Государство решало за нас все подобные проблемы. Многие из нас дожив до приличного возраста, так и не поняли, что означают понятия предприимчивость, изворотливость, хваткость, жадность. Пересев практически со школьной скамьи в кресло штурмовика многие отрасли житейского бытия так и остались для нас за бортом. Не коснулись нас и подлость, зависть, предательство.
«Выживание» обычной жизни знакомо нам было слабо. Мы «выживали» в другом, причём это «выживание» не было метафорой. Речь шла, как раз о самой жизни. Зато другие понятия, являющиеся эфемерными в обычной жизни – честность, дружба, долг, готовность к самопожертвованию, были для нас самой настоящей реальностью. Такая однобокость не является нормой в нормальной жизни. Её вполне справедливо можно назвать неприспособленностью к земному быту, с чем нам неминуемо пришлось столкнуться после окончания лётной работы. Но мы ни о чём не жалеем. Мы жалеем лишь о том, что всё в этом мире заканчивается.
Однажды, по окончании лётной программы второго курса, мы готовились к очередному отпуску. Поскольку мы уже имели полное право считать- ся перешедшими на третий курс, то с удовольствием перешивали нарукавные знаки с тремя полосками вместо двух под шевроном рода войск.
В это самое время начальник физподготовки полка решил принять у нас экзамен по своей дисциплине. Начинаться экзамен должен был с километрового забега. Мы пытались объяснить начфизу, что после успешного завершения лётной программы физподготовка уже ничего не решает, поэтому в его экзаменах смысла нет.
Но он был выпускником гражданской академии физической культуры и ответил, что физическая подготовка по своей значимости равна всем остальным, в том числе и лётной, а расписание экзаменов никто не отменял. Он даже добился того, что вывел нас на асфальтную дорогу, где мелом была размечена дистанция. Понятно, вместо спортивной формы мы вышли в Х/Б и сапогах.
Лейтенант, чувствуя наше отношение к предстоящему забегу, нашёл, как ему показалось, оригинальный выход. Он заявил, что тех, кто не сдаст забег с первого раза, он оставит на пересдачу за счёт отпуска, и это обойдётся двоечникам, как минимум в лишнюю неделю. Кстати, он имел на это право. А то, что мы побежим в сапогах – наши проблемы.
Возможно, после таких слов, следуя его институтским представлениям, мы должны были кинуться наперегонки к финишу, расталкивая друг друга локтями, дабы не упустить вожделенную неделю личного отпуска. Возможно, у них в институте так и поступали. Каждый сам кузнец своего счастья и всё такое…
В реальности же он банально показал нам красную тряпку. Он подумал, что мы позволим ему кого-то из нас оставить здесь за счёт отпуска, а сами радостно разъедимся к родственникам. Подумал, что мы сейчас отдадим ему кого-нибудь «на съедение». Лейтенант не понимал, что он на самом деле нам предлагает. Если бы вдруг кто-то побежал вперёд зарабатывать оценку, бросив остальных, он бы уже никогда не вернулся обратно. В нашем строю для него места уже бы никогда не нашлось. Естественно, такое и в голову никому из нас не могло придти.
Мы не проронили ни слова. Мы просто побежали. Вразвалочку, не спеша, но строем и в ногу. Наверное, это интересное зрелище, когда сорок парней красиво грохочут по асфальтовой мостовой. Каждый наш шаг сливался в единое касание. Если не видеть строя, то можно подумать, что бежит всего один человек, только огромного роста.
Лейтенант сначала бегал вокруг нас, подбадривал, хотя не понимал, почему мы бежим «в ногу». Потом кричал, что мы не укладываемся в норматив, начал злиться, призывать, грозить, возмущаться. На него никто не смотрел, да и просто не обращал внимания. Мы медленно, задумчиво бежали, сохраняя чувство собственного достоинства.
К финишу до лейтенанта начало доходить, что он не очень серьёзно выглядит со своими криками и угрозами. Он умолк. Его внутреннее возмущение начало потихоньку перерастать в удивление.
К финишу мы прибыли через шесть минут, вместо положенных трёх, и остановились тем же строем в том же месте. Эскадрилья в полном составе не уложилась в норматив. Мы даже не запыхались. Но формально приказ выполнили. Сорок пар глаз смотрели на лейтенанта очень спокойно, и где-то даже снисходительно.
НаЛейтенант, чувствуя наше отношение к предстоящему забегу, нашёл, как ему показалось, оригинальный выход. Он заявил, что тех, кто не сдаст забег с первого раза, он оставит на пересдачу за счёт отпуска, и это обойдётся двоечникам, как минимум в лишнюю неделю. Кстати, он имел на это право. А то, что мы побежим в сапогах – наши проблемы.верное, только тут он понял, что перед ним стоит не толпа отдель- ных военнослужащих. Перед ним стояло сорокоголовое животное, которое пугать так же бесполезно, как паровоз или статую мамонта. Которое не глядя на количество голов, имело единое сердце, единые чувства, единые мысли.
Нет, он не напугался. Лейтенант не был робким, он был мастером спорта по борьбе. Но ему стало не по себе. Он никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Да и где он мог столкнуться? Лейтенант опустил глаза и просто ушёл. Он не испытывал чувства обиды или досады. Он скорее был удивлён, как удивляется человек, столкнувшись с чем-нибудь новым, необычным, но большим и непонятным.
Тяжёлые условия жизни, напряжённая лётная работа и специфические отношения между собой закалили наш «организм». Любые внешние невзгоды отскакивали от него, не оставляя даже малейших царапин. «Организм» получился намного крепче железа. Сравнение с металлом уместно, поскольку нельзя точно сказать, был ли этот организм полностью живым? Внутри этого организма бились честные пылкие сердца, и тренированные лёгкие перемалывали кислород в углекислый газ, но больше, всё-таки, этот организм напоминал автоматическую систему, механизм.
Основой нашего коллективного сознания стало то, для чего нас собственно и готовили. Наш общий «организм» превратился в полноценную «деталь» военной машины Советского Союза, и как в последующем показала практика, действовал безотказно.
Совсем скоро многим из нас в процессе боевой работы пришлось «стирать с лица Земли» деревни и кишлаки вместе с жителями. «Применять» оружие массового поражения, запрещённое Женевской конвенцией. Никто не имел права выбирать или отказаться. Тяжёлой колесницей по нашим душам прошла приписка к боевым приказам: «В радиусе 500 метров мирных нет».
В детском саду модной была песня, обращённая к солдату, которого призывали к миру. Дальнейшая жизнь показала, что каждый из нас как раз и есть тот самый солдат.
Видишь солдат, слышишь солдат,
Люди пугаются взрывов,
Тысячи глаз в небо глядят,
Губы упрямо твердят:
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама…
Хорошая ли это жизнь, правильная? Не знаю. Но другой у нас нет. А эту невозможно зачеркнуть или кому-нибудь подарить. Во всяком случае, служба наша Отечеству была честная, бесхитростная, открытая, как на ладони, без подлости и лизоблюдства. Ни одному из нас нечего скрывать или прятать. Встречая чей-то взгляд, мы не отводим глаза в сторону.
Общепринято считать, что на войне самое трудное – это терять друзей. А легче ли смотреть на отца, который потерял единственного сына? Маленькое, старческое содрогающееся тельце. Он трясёт своей тросточкой, хочет закричать во весь голос, но ему не хватает воздуха. Его держат под руки, а он не понимает зачем. В глазах его ужас. Ужас от того, что он сам ещё жив. И непонимание, почему сын уже умер, а он ещё нет? Всё, чего бы ему хотелось в этой жизни – это умереть раньше сына.
Это тоже была часть нашей работы.
Огрубели ли наши души от такой работы? Могли огрубеть. У когото другого могли огрубеть. Но у нас - нет. Вот, например, стихи Паши Дубова. Прочтите и решайте сами. А Паше, кстати, и «Чёрным тюльпаном» довелось поработать.
А ты не поверишь, но ангелы тоже с работы
Приходят под вечер, порою, изрядно устав.
И их утомляют любые мирские заботы –
Попробуйбыть бодрым, весёлым, весь день отлетав…
А ты не поверишь, но ангелы крылья снимают,
Идут(ну, наверно, куда?) прямиком сразу в душ,
Пылинки и грязь аккуратно мочалкой смывают,
Пытаясь (напрасно) отчистить усталость из душ…
А ты не поверишь, но ангелы, чайник поставив,
Садятся на кухне и, молча, глядят за окно.
И думают – утром проснутся, и крылья расправив,
Пойдут-полетят на работу свою всё равно…
А ты не поверишь, но ангелы плачут ночами,
Припомнив какую-то (детскую? взрослую?) смерть.
И столько в слезах этих боли, горючей печали,
О том, что помочь не смогли, не успев прилететь…
Курс наш, в общем-то, ничем не примечательный. Ни один в генералы не выбился, в космонавты тоже. Пятеро подались в испытатели, двое стали Героями России. Двое сломались, теперь называются «душевнобольными». Хотя, если бы не незримая связь с «организмом», неизвестно, сколько бы нас ещё могло сломаться?
Выделялись ли чем-то среди остальных те, кто стали героями и испытателями? В профессиональном плане ничем. Любой из нас способен был выполнять любую работу. Просто кому-то повезло.
Пожалуй, к месту вспомнить историю американского полковника Пола Тиббетса, командира экипажа, сбросившего первую атомную бомбу на Хиросиму. Тиббетс закончил свою жизнь в психушке. Он не был зверем или недочеловеком. Просто он выполнил приказ, но его психика не выдержала груза содеянного.
Учёные, создавшие атомную бомбу, упивались собственным величием, население Америки ликовало, правительство, отдавшее приказ о бомбардировке торжествовало. С ума сошёл только человек, выполнивший приказ.
Нам он понятен. Мы тоже всегда лишь выполняли приказы. Если нарушить завесу секретности для ныне уже не существующего Советского Союза – каждый из нас являлся командиром ядерного ракетоносца, и ежемесячно упражнялся в обращении с ядерным оружием, предназначенным для только одному ему известного города. На документах, с которыми мы работали, не было грифов «секретно» или «совершенно секретно». На них стоял гриф «государственная тайна».
Всемирно прославиться из нас случилось двоим. Боре Короткову, который является непосредственным участником впервые официально зарегистрированного столкновения земного летательного аппарата с плазменной оболочкой НЛО. И, конечно, Славке Аверьянову, когда он на виду у всего мира в Ле-Бурже зацепил землю хвостом и катапультировался за две секунды до взрыва своего Су-30МК.
Набрали нас 160, до выпуска «добрались» 120. Каждого четвёртого «списали», хотя слабаков среди нас не было. При наборе конкурс составлял 10 человек на место. Прибывали для поступления тоже, понятное дело, люди не «с улицы». Прибывали только те, кто прошёл тщательный отбор в военкоматах. Там конкурс был ещё больше. В Советском Союзе военные лётчики считались элитой. Не только попасть в элиту, но и удержаться в ней было сложно.
После окончания училища лётная работа проводила «отбор» уже из списка живых. В личном деле записывалось «при исполнении служебных обязанностей». Но это не был «естественный отбор». Среди профессионалов не бывает «естественного отбора». Просто кому-то не повезло.
Сегодня мы подошли к возрастной черте, когда каждый начинает оглядываться и подсчитывать, что же он скопил за свою жизнь? Чего нажил? При этом машины, дачи, шубы жены и золотые серёжки предельно теряют стоимость. Дорогим оказывается только близкое, родное. Отдельно память хранит глаза друзей, особенно тех, которых уже нет.
Сейчас мы живём в разных городах. У всех семьи, дети, внуки. Не видимся годами. Былого «организма» вроде бы не существует. Но узнавая о смерти кого-то из друзей, ощущаешь болезненный укол в сердце. И тогда понимаешь, что «организм» не исчез. Он жив. И мы по-прежнему являемся его частями.
Когда умирает кто-то из нас, мы не говорим «умер хороший человек» или «умер замечательный человек». Мы просто знаем, на Земле нас стало меньше.
У каждого в сердце осталась потайная дверь, за которой он хранит чёрный шлемофон и кислородную маску. Когда последний из нас уйдёт в свой последний полёт, остальные уже будут ждать его за горизонтом.
Кубякин О.Ю.
Шинель номер пять
Художники:ЗейгальА. Г., Голобородько А. Б.Дизайн и верстка: Тигиев С. Ф.